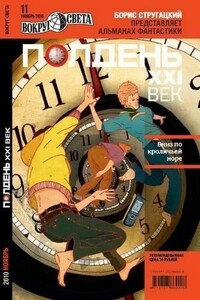«ничего себе у тебя новости
ну то есть – ничего себе
я даже не знаю, как изложить такую эмоцию на письме
ночью по комму тебе изложу
но –
ничего себе!
Ай-йя!
послушай
можно я пока не буду верить?
я просто вот в тот момент, когда прочитала у тебя «два месяца», поняла, что сейчас сойду с ума
тихо и откровенно
потому что я так этого хочу, что не могу позволить себе этого ждать
ты понимаешь?
я буду писать тебе, как всегда
говорить с тобой, как всегда
я не увижу тебя два месяца
ну что же
будем считать, что ты в долгой командировке
я, конечно, умру за эти два месяца
но останусь живой
а потом ты приедешь обратно в Москву из незнаючегокудавыедете и напишешь мне:
“Ну что, девочка. Я прилетаю в пятницу и остаюсь. Ты меня впустишь?”
и вот тогда я уж точно, однозначно умру
лис
лис лис лис лис лис
мне трудно подолгу не произносить твое имя
я обязательно напишу тебе когда-нибудь письмо такого содержания:
лис
лис лис лис лис лис
лис лис лис лис лис
лис лис лис лис лис
лис
лис
лис
ты не расставляй в нем интонации, если я его напишу
это не зов, и не упрек, и не еще что-нибудь, это просто я скучаю по тебе, по тебе, по возможности шептать тебе в ухо: “лис лис лис лис лис”, по возможности слышать, как ты смеешься, говоришь: щекотно
послушай, я сейчас о серьезном
пожалуйста: береги себя. Я знаю, я говорю это каждый раз, но сейчас я очень серьезно говорю: Лис, ради бога и ради меня, береги себя, пожалуйста, береги себя. Я знаю все твои песенки: Россия – совершенно европейская страна, да. Только ты предупреждаешь меня, что откуда-нибудь у тебя может не быть никакой связи, кроме интернета. Я спросила на работе, есть ли у нас старый интернет, показала то, что ты прислал про протоколы. Они говорят: да, есть, мы тебе покажем, где, но только ты учти – это какая-то дикая система, что, другого способа нет? Говорят: откуда он тебе пишет, из Бирмы? Нет, говорю, из совершенно европейской страны.
не сердись.
я просто волнуюсь
прости меня.
послушай
я хочу тебя совершенно невыносимо
я хочу, чтобы ты медленно в меня входил
медленно, по сухому
чтобы я чувствовала, как ты пробираешься во мне
с трудом
и понимала, что вот так я впускаю тебя в себя, в свое тело
в свою жизнь
медленно и трудно
но с любовью и с желанием
всего
я боюсь, что у тебя ничего не получится
в смысле, по сухому
я мокрая даже сейчас
когда просто представляю себе
я люблю тебя»
На той вывеске, которая у них видна с улицы, под надписью Big Tits Pub сиськи выпирают в виде двух довольно больших арбузов, зато под надписью непосредственно над баром они выглядят двумя остренькими горками. Просто не состыковали чего, или нам пытаются намекнуть на разнообразие больших сисек в этом прекрасном месте? У официантки, между тем, груди маленькие – очень маленькие, совершенно незаметные под обтягивающим черным платьем и белым фартучком. Зачем-то они тут пытаются воссоздать атмосферу девяностых прошлого века – можно подумать, девяностые выглядели так. Сделали бы себе обычный паб, паб как паб, и просто повесили бы на стену табличку «Никакой политкорректности!» – сюда ходили бы те же толпы, что и сегодня, но при этом обстановка не пахла бы таким лобовым, таким скучным китчем. Мне тут почему-то неприятно – может, из-за того, что этот паб напоминает рассказы деда о прадеде: как в годы молодости, где-то в шестидесятых, прадед и его друзья подняли большую бучу, тут, в Калифорнии, двести с чем-то миль к северу, в Ю-Си Беркли. Тогда еще большинство американцев были белыми, и мой прадед, как ни странно, тоже был белый, даже натуральный блондин, и они вместе с друганами стали требовать равных прав для всех – для азиатов, для черных, для женщин, геев – всех на свете. Они захватили небольшой парк рядом со своим университетом и там демонстративно начали трахаться, все вместе, без различия цвета кожи. А потом их разогнала полиция, потому что, объяснял мне дед, тогда было незаконно если, скажем, китаец – с негритянкой, прямо как сейчас незаконно трахать детей. И прадеда, и всех его друганов отпиздили, кого-то убили даже, но он все равно вспоминал об этом как о лучших днях своей жизни.