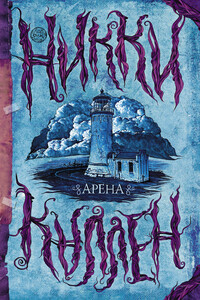Последние дни были странными и жуткими, все время приходилось отдавать себе отчет, что мой мозг и мое тело периодически начинают вести себя не так, как вели бы себя в рамках собственных привычек. Когда я пришел получать кальку, меня заставили прослушать стандартный монолог консультанта об опасности нанесения кальки на человека, который не является «интеллектуально ограниченным». Простыми словами – не является совсем уж полудурком, едва ли не олигофреном: у них практически нет ни навыков, ни опыта, ни привычек, и чужие привычки, опыт и навыки ложатся на их мозг гладко и аккуратно, и все довольны, «когда же, – говорил консультант, – калька, в соответствии с з-а-к-о-н-о-м (и морщился, явно осуждая такой нелепый закон), наносится, так сказать, на мозг полноценного человека, конфликт моторного, когнитивного и другого благоприобретенного опыта двух личностей – личности донора и личности носителя – может привести к крайней утомляемости, повышенной тревожности, наконец, к п-с-и-х-и-ч-е-с-к-и-м расстройствам. Вы меня понимаете?» – вдруг спросил консультант и наклонил ко мне странное маленькое личико на неприлично длинной шее, тянущейся из высокого и грузного тела. Я его понимал. Консультант неожиданно и раздраженно сказал: «Перестаньте вертеть ручку!» Я изумленно положил его ручку на стол, подальше от себя, и он удовлетворенно продолжил: «Короче, обычно наследники донора обращаются за нанесением кальки только для выполнения какой-нибудь временной незаконченной донором работы, и учитывая, что большинство доноров оказываются обладателями такой роскоши, как калька, н-е-с-л-у-ч-а-й-н-о, – (и он снова посмотрел на меня жирафом; я молчал; мне действительно не верилось, что у Лиса, не бывшего ни нобелевским лауреатом, ни Гопперовским стипендиатом, внезапно обнаружилась калька; мне нечего было ответить этому человеку со странной головой), – скажем, для выполнения некоторой небольшой, желательно очень небольшой, занимающей не больше месяца работы – и потом отказываются от дальнейшего ношения кальки в силу к-р-а-й-н-е серьезной нагрузки на мозг!» – последнее слово он практически выкрикнул, воинственно вытянув ко мне шею, и я подумал, что этот человек, кажется, несколько опасен.
Месяц. Я спросил его потом, почему он назвал сроком месяц, и немедленно пожалел, ибо он начал мучительно и заунывно рассказывать мне о биохимии мозга, о нагрузках и о какой-то белке Шеймана, которая, как я понял, умерла в страшных муках. Месяц. У белки Шеймана слюна текла из пасти, и она расцарапывала себя коготками до крови. Но это уже месяца через три. А месяц был еще ничего. На расслабляющих бионах и на кое-какой химии, которую мне выпишут, как только я надену кальку, и которая, грозно предупредил меня очкастый жираф, будет «крайне плохо влиять на мои почки, желудочный тракт и п-е-ч-е-н-ь». Я представил себе п-е-ч-е-н-ь – гофрированной, как его интонации, – и похолодел, и перед тем как идти в процедурную, посидел десять минуток на диванчике и подумал хорошо, потому что месяц – это не срок, месяц – это не стоит даже рисковать, травиться, возиться, потому что все, чего я хотел, – это его знания, его связи и его опыт, то, чего я был лишен в силу несчастных моих обстоятельств и что досталось ему задаром в силу обстоятельств его счастливых, – положим, нехорошо так думать о мертвом, но что поделать? Если бы я не любил его, я бы не завидовал ему – вот что я думал, и это я думал в первый раз. Если бы я не любил его, если бы он не вызывал у меня такого восторга, если бы он не казался мне таким светящимся солнечным мальчиком – разве бы я хотел быть на его месте? Не хотел бы. Но я же любил его, я же его любил, как много-много братьев, я всегда хотел доказать ему и себе, и еще кое-кому – например, Еввке, например, Адели, например, Тане, – что я не хуже его и могу через границу шмыг-шмыг по сорок пять бионов за раз и так потом идти по аэропорту, будто в мире нечего бояться, я хотел просто шанс такой, как у него, просто доказать себе, убедиться, что немножко его опыта и немножко его связей – и… И для этого, может быть, хватит месяца, месяца, может быть, окажется достаточно, а через месяц я уже буду другим человеком – без химер прошлого, без кома в горле из-за того, что ты хуже, хуже другого.