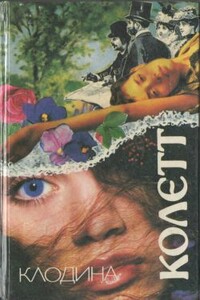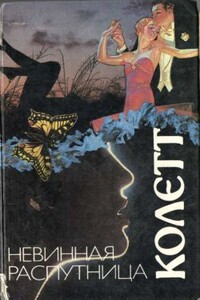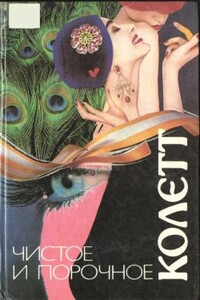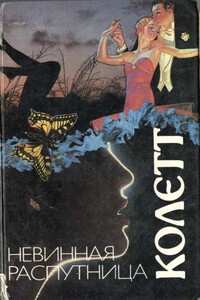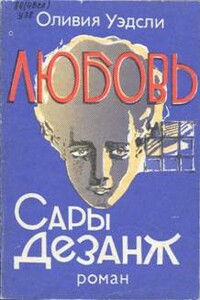После трёх полдников в «Кер-Анне» он отказался от дневных визитов, опасаясь волнения родственников и подозрений Вэнк. К тому же он был ещё слишком юн, ему быстро наскучило подыскивать достойные оправдания своим отлучкам. Кроме того, он опасался крепкого смолистого аромата, пропитавшего в «Кер-Анне» всё: воздух, вещи и кожу – будь она обнажена или прикрыта одеждами, – тело той, кого он исподтишка, то с тщеславием молодого повесы, то с горькими угрызениями супруга, обманывающего дорогую сердцу жену, называл своей возлюбленной, повелительницей, а подчас и «повелителем»…
«Откроются мои похождения или нет – в любом случае всё будет кончено именно здесь. Но почему?»
Ни одна книга из тех, что он читал, порой открыто, где-нибудь у моря, уткнувшись локтями в песок, порой уединившись – более из целомудрия, нежели из опасения быть застигнутым – в своей комнате, не могла навести его на мысль, что кому-то обязательно суждено погибнуть в столь заурядном крушении. Романы посвящали сотни страниц приготовлениям влюблённых к физической близости, само же это событие занимало от силы полтора десятка строк, и Флип напрасно отыскивал в памяти книгу, в которой было бы сказано, что молодой человек отнюдь не теряет невинность и не прощается с детством после первого грехопадения, но что проходит немало дней, прежде чем его перестаёт качать и трясти, словно при землетрясении…
Флип поднялся и побрёл вдоль песчаного края берегового обрыва, изъеденного большими морскими приливами во время равноденствий. Отцветший куст утёсника навис над пляжем, его удерживало лишь плетение тонких корней. «Когда я был моложе, – подумал Флип, – он ещё не свешивался вниз. Море отгрызло хороший кусок – более метра, – пока я рос… А Вэнк утверждает, что куст сам подвинулся к обрыву…»
Невдалеке от обречённого утёсника была округлая впадина, поросшая песчаным чертополохом, который из-за сходства с синеголовником здесь прозвали «глазками Вэнк». Именно в этих местах Флип однажды нарвал охапку цветущих колючек и метнул их потом через ограду «Кер-Анны». Теперь сохранившиеся по краям впадины засохшие цветки казались прихваченными пламенем… Флип на минуту приостановился. Но он был ещё не в том возрасте, когда с улыбкой припоминают, каким мистическим смыслом любовь наделяет мёртвый цветок, раненую птицу, лопнувшее обручальное кольцо, а потому надменно стряхнул с себя горестную ношу, расправил плечи, привычным горделивым жестом смахнул волосы со лба и обратился к себе со словами укора, которые пришлись бы по вкусу авторам приключенческих романов для детей в возрасте первого причастия:
«Что ж! Прочь слабость! Теперь я без всяких сомнений вправе сказать, что стал наконец мужчиной! Моё будущее…»
От подобного хода мысли он сам покраснел. Его будущее? Месяц назад он ещё размышлял о нём. Тогда он представлял себе уйму мелких, по-ребячески точных подробностей на совершенно расплывчатом фоне: будущее означало коридор перед экзаменационным залом, зубрёжку в ожидании экзаменов на бакалавра, множество разных занятий, с которыми смиряешься без особого раздражения, ибо «ведь это необходимо, не так ли?» Будущим была и Вэнк: время, наполненное ею, проклятое или благословенное её именем.
«Как я спешил в начале каникул, – вспомнил Флип. – А теперь…» Он грустно улыбнулся, и глаза его подёрнулись влагой. Его верхняя губа становилась день ото дня темнее, и пробивающийся на ней первый пушок так же напоминал усы, как лесная травка – жёсткую полевую солому. От этой робкой растительности рот казался больше, губы – набухшими, словно у опечаленного ребёнка. Именно к его рту обычно был обращён мстительно непроницаемый взгляд Камиллы Дальре.
«Моё будущее, так что же с ним будет?.. А всё просто… Если я не попаду на факультет правоведения, меня ждёт папин магазин: аппараты для охлаждения вина – их покупают для гостиниц и богатых особняков, – фары и запчасти для автомобилей. Экзамен на степень бакалавра и сразу же – магазин, клиенты, деловая переписка… Отцу не хватает заработков, чтобы обзавестись собственным авто… Ох, а ведь ещё меня ждёт военная служба… О чём это я думаю?.. Положим, после экзаменов…»