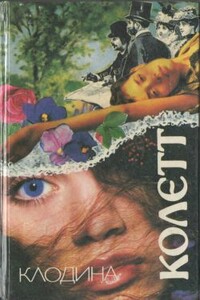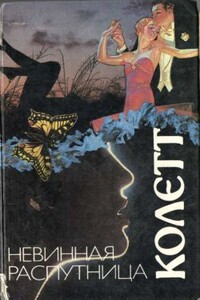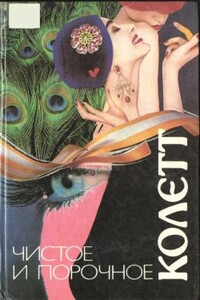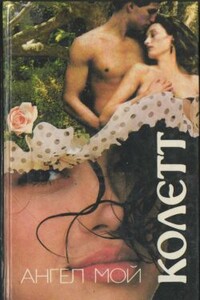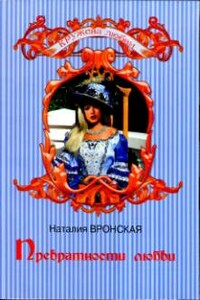Все ритуальные действия совершались с обычной неотвратимостью; служанка унесла хнычущую Лизетту, госпожа Ферре выложила на полированный стол шестёрку-дубль.
– Ты не выйдешь подышать, Вэнк? Так надоели эти ночные бабочки: тычутся во все лампы!
Не ответив, она последовала за ним. На берегу их окутало зыбкое сияние моря, надолго замедляющее приход полных сумерек.
– Может, принести твой платок?
– Спасибо, не надо.
Они шли в легчайшей туманной дымке, поднимавшейся от песка и пропитанной запахом тимьяна. Флип не решился взять свою подругу под локоть и сам пришёл в ужас от подобной сдержанности.
«Боже мой, что это с нами происходит? Неужели мы друг для друга потеряны? А может, раз она не знает, что произошло там, мне стоит просто выкинуть это из головы, забыть, и мы снова станем счастливы, как прежде, и несчастливы, тоже как до того, преданы друг другу, как раньше?»
Но его желание явно не обладало гипнотической силой: Вэнк шла рядом всё такая же нежная и холодная, словно былая великая любовь покинула её и она не ощущала, в каком отчаянии её спутник. Флип же с тревогой чувствовал приближение «того самого часа», его лихорадило, как когда-то, когда он напоролся на ядовитый плавник морского чёрта и наутро, проснувшись, почувствовал, что в перевязанной руке вместе с приливом поднимается боль… Он остановился и вытер лоб.
– Здесь нечем дышать. Мне нехорошо, Вэнк.
– Ах, нехорошо! – эхом отозвался голос его спутницы.
Вообразив, что она готова к примирению, он и голосом и жестом попытался выразить свою благодарность:
– Ах, как ты мила! Да ты просто чудо!
– Нет, – так же отстранённо откликнулась она. – Я совсем не мила.
Темнота скрыла, как покраснел Флип; он поторопился объясниться:
– Понимаешь, этот угорь, которого ты терзала там, в норе… Его кровь на багре… У меня тогда всё перевернулось.
– Ну да, перевернулось… именно перевернулось…
В её голосе было столько понимания, что у него перехватило горло от ужаса: «Она всё знает!» Он ожидал душераздирающих слов, стенаний, слёз. Но Вэнк молчала, и после долгой, словно промежуток между молнией и громом, паузы, он отважился робко спросить:
– Неужели одной минутной слабости достаточно, чтобы ты стала вести себя так, будто разлюбила?
Вэнк повернула к нему лицо – в сумерках оно казалось туманным светлым пятном, стиснутым жёсткими полосками волос.
– Ох, Флип, я люблю тебя как раньше. К несчастью, это не может ничего изменить.
Сердце у него ёкнуло, и к горлу подкатился ком.
– Изменить что?
– Нас самих, Флип.
Она произнесла это с мягкой проникновенностью ясновидящей, и он не рискнул попросить объяснений, не посмел даже обрадоваться этой мягкости. Теперь, видимо, и Вэнк мысленно сделала шаг назад, поскольку неожиданно добавила:
– Помнишь, какие сцены закатывали: ты – мне, а я – тебе из-за того, что нам мыкаться целых четыре-пять лет перед замужеством? Это было всего три недели назад… Ах, мой бедный Флип! Вот я сейчас думаю: хорошо бы вернуться назад, в детство…
Он ожидал, что она объяснит или хотя бы намекнёт, что означало это проклятое «сейчас», повисшее перед ним в прозрачном синем воздухе августовской ночи. Но Вэнк, видимо, переняв его науку, вооружилась молчанием. Он решился настаивать:
– Так ты на меня не сердишься? И завтра мы будем… мы снова будем Вэнк и Флипом, как раньше? И уже – навсегда?
– Навсегда, если тебе угодно… Пойдём, Флип. Надо возвращаться. Стало прохладно.
Это «навсегда» у неё прозвучало совсем не так, как у него. Но он удовольствовался и такой неполной клятвой, и её холодной ладошкой, которую она на краткий миг позволила ему сжать в своей руке. Ибо в это самое мгновение скрежет цепи и звон ведра о край колодца, скрип колец задвигаемой занавески в чьём-то открытом окне – все эти звуки, свидетельствующие о грядущем сне и покое, отметили час, которого он так ждал накануне, чтобы отворить двери родительского дома и, таясь, устремиться в путь… Ах, приглушённый красноватый свет незнакомой спальни… Ах, тёмное счастье, смерть, одолевающая постепенно, жизнь, к которой возвращаешься, как бы взмывая ввысь и медленно маша крылом…