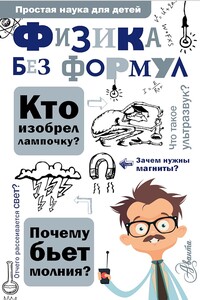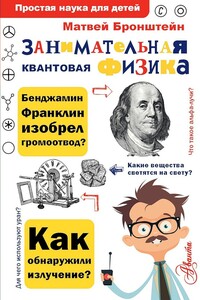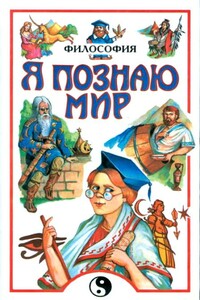Среди философов Нового времени Блез Паскаль (1623–1662 гг.) занимает особое место. Русский философ Лев Шестов писал, что Паскаля «влекло не вперед, вместе со всеми людьми, к «лучшему» будущему – а назад, в глубь прошлого». «Пренебрежение философствованием и есть истинная философия» – таков один из парадоксальных афоризмов Паскаля, выраженный в книге «Мысли», написанной им всего за несколько дней.
Блез Паскаль
Уже в раннем детстве у Паскаля проявилась необычайная способность к восприятию мира и недюжинная сила ума. В 11 лет он заметил, что если ударить ложкой по тарелке, а затем сжать ее пальцами, то звук вызванный ударом, стихает гораздо быстрее, чем без сжатия. Это навело его на мысль о колебательной природе звука, и он написал «Трактат о звуках», который был серьезно воспринят взрослыми учеными. В 17 лет Паскаль написал геометрический трактат «Опыт о конических сечениях», который привел многих ученых в восторженное изумление. Только, пожалуй, один Декарт выразил сомнение – он считал, что Паскалю не хватает методичности и доказательности. Позже уже сам Паскаль выступит с критикой декартовской философии, станет одним из самых непримиримых ее противников.
Но, в сущности, Декарт был прав – Паскалю действительно претила методичность в науке. Наука представлялась ему чем-то вроде набора головоломок, которые необходимо решить для элементарной жизненной пользы или просто в качестве интеллектуального соревнования. К примеру, первую счетную машину Паскаль изобрел для того, чтобы помочь отцу в его нудных ежедневных подсчетах. Основы теории вероятностей он разработал, чтобы ответить на вопросы друзей-картежников о том, как поделить выигрыш между игроками, если игра внезапно прервется. Однажды он объявил конкурс на решение сложной математической задачи – и сам его выиграл, решив задачу быстрее всех.
В конце жизни Паскаль даже принял активное участие в создании первого в Европе «общественного транспорта» – кареты должны были ездить по определенным маршрутам через определенные промежутки времени.
Кардинальный поворот в своих взглядах на мир и человека Паскаль испытал как раз в 17 лет, когда познакомился с учением епископа Янсения – янсенизмом. Янсенизм, ратовавший за нравственное очищение человека, за подчинение его воли воле Божьей, за аскетическую жизнь, был во Франции своеобразной формой протестантизма внутри католической церкви. Паскаль стал ярым сторонником янсенистов. К тому же его с детства мучили необъяснимые сильнейшие боли, и он обостреннее многих сознавал бренность этого мира, абсурдность существования человеческого существа, которого ожидает неизбежный конец – смерть. Но что там, за порогом смерти?
Перед сознанием Паскаля «разверзлась пропасть», ощущение которой преследовало его всю жизнь: «Мы беззаботно бежим к пропасти, поместив перед собой что-нибудь, мешающее ее видеть». Очевидцы рассказывали, что Паскаль часто буквально физически видел эту пропасть и загораживался от нее стулом. Перед этой пропастью разум – ничто: «Смирись, бессильный разум; умолкни, глупая природа: знай, что человек – существо, бесконечно непонятное для человека, вопроси у твоего Владыки о неведомом тебе истинном твоем состоянии».
Что такое человек? – задавал себе вопрос Паскаль. И отвечал на него сам: «Человек – всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он – тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не надо быть всей Вселенной: достаточно дуновения ветра, капли воды. Но пусть даже его уничтожит Вселенная, человек все равно возвышеннее, чем она, ибо сознает, что расстается с жизнью и что слабее Вселенной, а она ничего не сознает.» Паскаль не отвергал человеческий разум. «Все наше достоинство в способности мыслить», – говорил он, но отвергал слепое повиновение разуму. Разум необходим человеку, считал Паскаль, для того, чтобы мочь воспринять и осознать волю Бога. Но есть такие запредельные вещи, перед которыми разум бессилен.
Тщету этого мира Паскаль обосновывал даже простейшими рассудочными аргументами: что выгоднее – получить вечность или «пустяк» жизни, преходящее, ничто. Историю человечества, считал Паскаль, нельзя рассматривать как непрерывный рациональный процесс, в ней все подвержено случайностям, причины которых нам неведомы. «Если бы нос Клеопатры был чуть короче, всемирная история получила бы иное направление», – шутил он.