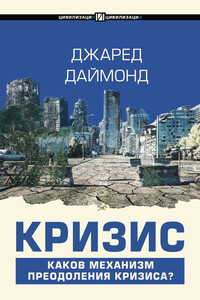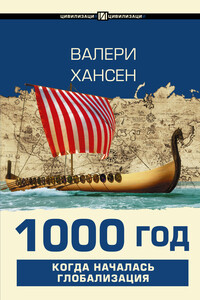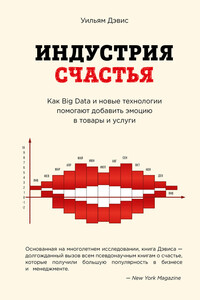Но когда напряженность от финансового кризиса спала, из тени на свет попали технократы из самого сердца нашей финансовой системы, вышедшие из тяжелых времен намного более могущественными, чем до них. Массовые гражданские беспорядки были предотвращены, но круговорот денег оставался на волоске от высыхания еще несколько лет. Как говорилось в одной известной метафоре, финансовая система пережила подобие сердечного приступа, и восстановление было долгим, коль скоро механизмы, ответственные за перекачку денег по жилам страны, – иными словами, банки, – оставались в критическом состоянии[29]. За исцелением довелось надзирать центральным банковским органам и их никем не избранным экспертам, чьей задачей было не дать системе снова развалиться.
Методика, примененная в Великобритании и США, а потом и Еврозоне, называлась «количественным смягчением». Она предполагала закупку банками активов пенсионных фондов на сотни миллиардов фунтов стерлингов. Согласно этой стратегии, деньги прокачиваются через банковскую систему (при этом пенсионные фонды остаются при своем), что, как предполагалось, со временем возродит банковское кредитование. Но главным секретом данной практики явилось то, что центральные банки изначально сидели без денег: те были созданы путем приписывания цифр к балансам на счетах пенсионных компаний, добавляя аналогичную прибавку к обязательствам в своей финансовой отчетности.
Подобным образом были аккумулированы значительные суммы: 4,3 трлн долларов в США, 2,4 трлн долларов в Еврозоне и 400 млрд фунтов стерлингов в Великобритании. Если считать целью предотвращение еще одного финансового инфаркта, то все сработало, однако польза для экономики в более широком смысле была в лучшем случае неопределенной. Последствия банковского краха все еще отзывались резким падением прибыли и производительности, особенно в Европе. Язык экономики оказался недостаточно способен отразить всю степень случившегося шока, из-за чего в ход пошли метафоры жизни и смерти. Энди Халдейн, главный экономист «Bank of England», пояснял, что экономические потрясения, подобные случившимся, страна видела только во времена войны[30]. Но именно экономисты из центральных банков и казначейств обрели достаточную силу, чтобы протолкнуть нас через это опасное время. Им была поставлена задача принимать решения быстро, с максимальными последствиями, но почти без шанса на консультацию или публичное обсуждение. Неужели это все, что можно было ожидать от экспертного сообщества?
Подобные события типичны для недоразумений и противоречий, ныне опутавших политические позиции экспертов и способных вызвать подозрительность и презрение к последним. Появление количественного смягчения совпало с тем, как Чайная партия в США зациклилась на объявлении такой политики чистейшим примером государственной коррупции, посредством которой финансовые и правительственные элиты получили возможность безнаказанно залезть в карманы своих сограждан. Не помогла и чрезвычайная сложность реформы. Немногие экономисты оказались способны высказать заметную уверенность в предсказании возможного исхода. Когда реформа была завершена, «Bank of England» на собственном сайте признался, что «сложно сказать, сработало ли количественное смягчение и насколько хорошо». Одним из неоспоримых преимуществ новой реформы было обогащение богатых за счет роста стоимости активов (включая недвижимость), еще больше усилилось ощущение, будто имеет место заговор элит против простого народа[31]. Что еще могло побудить экономических технократов и впредь оставаться объективными и аполитичными?
Еще более захватывающим обстоятельством во всей этой истории было то, как сошлись в ней воедино вопросы экономической экспертизы, вроде построения моделей или анализа рисков, и чрезвычайное положение в стране. Только что мы доверяли экспертам, обещавшим дать нам объективную картину мира; теперь же мы позволили им принимать решительные меры против угроз самой ткани цивилизованного общества. Финансовые регуляторы и центральные банки нанимают специалистов, исходя из их познаний в экономике и математике, но на сей раз эти специалисты оказались в гораздо более ответственном положении.