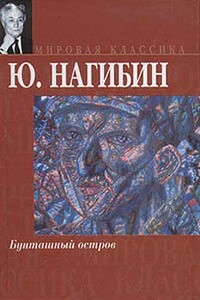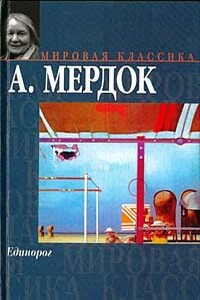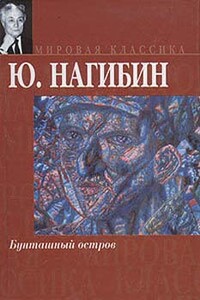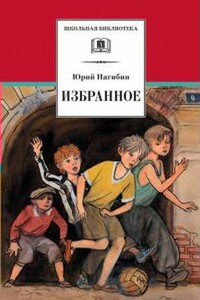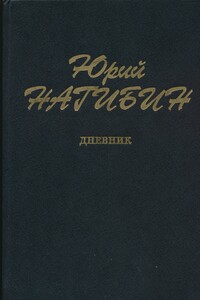Я спросил: была ли служба Моэма в Интеллидженс сервис тоже игрой. «Чистой воды! — не задумываясь, ответил он. — Лоуренс — Аравийский. Моэм — Петербургский. Я начисто не понимал, что у вас происходит. Положа руку на сердце, не понимаю и сейчас. Вы хотите осчастливить людей, в этом, если не ошибаюсь, цель марксизма. Но ведь это невозможно. Каждый носит в себе свой ад и никому его не отдаст». Я не стал возражать. Нельзя же на скорую руку перевоспитать девяностолетнего старца. Лучше вернуться к литературе. Он сделал это сам, прежде чем я отыскал монетку. У него не было склероза, он не терял нити разговора и размышления. Хорошо разработанный мозг сам себя защищает. «Жироду убили из зависти, — сказал Моэм. — Он был слишком талантлив, слишком знаменит, слишком блестящ и к тому же на редкость удачлив. Он шел от успеха к успеху, ни разу не оступившись. Добавьте к этому победительную внешность, обаяние, брызжущее фонтаном остроумие, успех у женщин и душевную широту, начисто отсутствующую у французов. Чересчур много для одного человека. Казалось, он создан Господом в назидание и унижение окружающим. А великих людей и так ненавидят. Сколько ненависти возбуждали ваш Толстой и ваш Достоевский. Как ненавидели Байрона, мучили Шиллера, Бетховена, тех, кого надо носить на руках и осыпать лепестками роз. Их и носили и осыпали, но за это же ненавидели: за свои восторги и поклонение, за собственную малость».
Я вспомнил его слова, когда через много лет был застрелен Леннон, лучший из «Битлов», давший людям столько радости и не обронивший крупинки зла.
— Эта горестная и страшная черта двуногих, — продолжал Моэм. — И чем дальше, тем будет хуже. Ненависть распространится с творцов на их творения.
— Но почему ненависть ограничилась одним Жироду?
— А вам мало? — ядовито осведомился Моэм.
— Получается так: живых надо холить и лелеять, а мертвых поносить?
— Я имел ввиду другое: не делать между ними различия. Любовь не исключает спора, даже ругани. Полагаю, что могу говорить от лица мертвых, я к ним ближе, чем к живым.
Как и полагается в подобных случаях, я выразил смутное несогласие с последним утверждением.
— Ну-ну, не надо… Лучше спросите меня о том, что вам наверняка интересно: очень ли страшно быть таким старым.
А мне это и в голову не приходило. Глядя на Моэма, я думал не о том, как много он прожил, а о том, как много он сделал, и сделал блистательно. Вот человек, осуществивший себя до конца. Впрочем, сам он может быть на этот счет иного мнения, но мне казалось, что, написав свои романы и пьесы, он мог бы без паники поджидать неминуемое. У меня лично были куда более напряженные и тревожные отношения с потусторонним миром, о чем я сообщил Моэму.
— Это мысли очень молодого человека, а ведь вам за сорок.
— У меня замедленное развитие — общее и литературное.
— У меня тоже, — сказал Моэм. — За всю свою жизнь, считающуюся долгой (это грубое заблуждение), я почти ничему не научился. То, что я мог с самого начала, то и осталось со мной. Разве мой последний роман написан лучше, чем «Луна и грош»? Я накатал кучу муры, вроде «Мага», в пору своего утверждения, но в смысле словесного искусства это было не хуже моих поздних вещей. А можно ли вообще утверждать, что писатель развивается, прогрессирует с годами? Я не уверен. Прибавляется ремесла, профессионального навыка, но это зачастую оплачивается утратой непосредственности. Разве поздние романы Диккенса, Гамсуна, Фаллады лучше ранних? Конечно, можно отыскать примеры литературного роста, но еще легче — примеры обратные: хотя бы Тургенев или Хемингуэй. Но все это — исключения. А правило: писатель задан сразу, раз и навсегда.
— А почему вы в какой-то момент бросили писать романы и занялись мемуаристикой?
— Необычайно приятно писать романы, когда они пишутся, и необычайно приятно не писать их, когда они не пишутся. Тогда смакуешь каждое мгновение бытия. — Он вдруг озадачился. — Что это — плохие стихи или внезапно родившаяся во мне банальность? Когда вы пишете прозу, вы или закрываете глаза на окружающее, коли оно посторонне вашей теме, или относитесь к нему сугубо потребительски: выискиваете детали, вылавливаете нужное, копаетесь, как мусорщик на свалке, в надежде найти серебряную ложку, перстень или монету в куче дряни. Вы не живете окружающим, вы паразитируете на нем. А когда душа свободна от замысла, все в радость и удивление: свежесть травы, дождевые капли на ветвях, птицы, цвет и запах земляники — все источник счастья. Наименьшее — человек. Он всегда многозначен и потому неудобен. Раньше мне интереснее всего были люди, сейчас этот интерес почти угас. Влекут сигналы неодушевленного бытия, несознающей себя материи. Я рад, что у меня оказалась долгая старость. Все-таки упоительно не готовить уроков, а просто быть в мире. Страх смерти?.. Я его не знаю. Потому что не знаю, что такое смерть. Иногда я ловлю себя на теплом чувстве: интересно, в какие игры играют