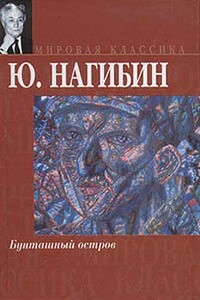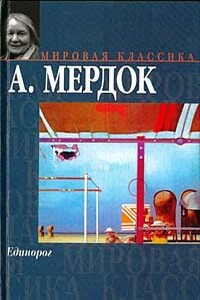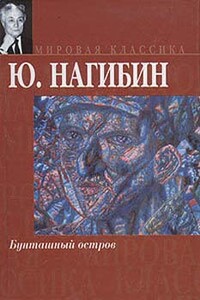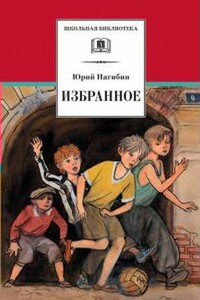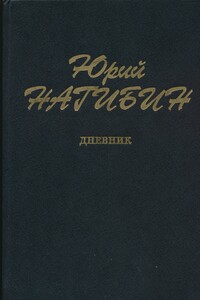Мери поражало, как Капитан может мириться с тем, что она принадлежит двоим. Собственная раздвоенность ее тяготила, хотя и не слишком. Она отвечала Джонсу только покорностью. Мери не знала, что к мужьям и вообще-то не ревнуют, а Капитан продолжал находить удовольствие в том, что наставляет рога этому богатому простофиле, этому лощеному джентльмену, потомку раздувшихся от спеси недоносков, чьи мерзкие рожи не гнушались писать Рейнольдс и Гейнсборо.
Оставалась надежда, что Джонс все узнает и сам прогонит ее, тогда Капитану волей-неволей придется открыть перед ней дверь. Неведение Джонса поражало. Они же ничуть не скрывались. Всюду появлялись вместе: в барах, дешевых ресторанах, кафе, в дансингах, на боксе (Капитан любил этот мужественный вид спорта и в молодости не без успеха подвизался на ринге в весе блохи), на выставках, в музеях. Конечно, люди одного с Джонсом круга чуждались тех народных развлечений, до которых охочи были Мери и Капитан, а появление ее на вернисаже или в музее с художником, чьи картины приобретает муж, казалось естественным. И все же… Сын знал, прислуга знала — и Мери усомнилась в неведении Джонса. Это было похоже на него: знать и молчать.
Неизвестность, зловещая немота Джонса, ложь, проникавшая в каждое слово, жест, улыбку, ледяное отчуждение сына доконали Мери, и она, не думая о последствиях, однажды открылась мужу.
Сделав свое признание. Мери так и не поняла, явилось ли оно неожиданностью для Джонса или подтверждением давно мучивших его подозрений. Вид у него был до того растерянный, ошеломленный и беспомощный, что Мери почудилось: игра! Но тогда он был гениальным актером. Во что не слишком верилось. Самое же непонятное: он молчал и словно ждал продолжения. Мери задумалась. Конечно, она не сказала главного: я ухожу от тебя. Но этого она и не могла сказать, ей некуда было идти. Если в нем есть хоть капля гордости, самолюбия, он должен выгнать ее вон. Это будет жест милосердия, тогда все само собой образуется. Или не образуется. Но это уже не его забота. От него требуется короткий и естественный мужской жест.
Джонс молчал. Лицо его стало спокойным, благожелательно серьезным, разве что немного поглупевшим.
— Ну скажи хоть что-нибудь, — попросила Мери.
Голос прозвучал издалека, словно из пустыни:
— Видишь, как жестоки белые люди. Их губы тонки, носы заострены, на их лицах складки и морщины, в глазах острое ищущее выражение. Белые всегда чего-то хотят, всегда ищут. Они беспокойны и нетерпеливы. Они никогда не довольствуются своим, им нужно чужое. Я — индеец, а ты предпочла белого.
— Ты кого-то цитировал? — неуверенно спросила Мери, которой в первые мгновения показалось, что Джонс сошел с ума.
— Карла Юнга. Весьма приблизительно. Это из его путешествий.
— Даже в такую минуту у тебя нет собственных слов. Наверное, из-за этого все и произошло.
— Важно то, что за словами, — сказал Джонс. — Тонкие губы, острый нос, складки и морщины. Голодный ищущий взгляд. Разве не точный портрет? Конечно, он должен был найти, хотя сам толком не знал, что ищет.
Выложив ему правду, Мери совсем обессилела. Его околичности падали в пустоту. Люди были слишком сложны для прямолинейной Мери. Они набиты сентенциями, цитатами, парадоксами, чужими мнениями, дурными страстями, изворотливыми пороками, непрозрачными добродетелями и непоколебимой внутренней правотой. Наверное, Джонс лучший в мире человек, но и в нем она ничего не понимает. Зачем он витийствует, вместо того чтобы прямо объявить свое решение? Она на все согласна. Лишь одно страшило: а что же с сыном?.. Она сознавала, что лишилась прав на сына, — Джонс ни при чем, мальчик сам от нее отказался. Но тут уж ничего не поделаешь, надо было раньше думать. Остается одно: верить, что, повзрослев, он простит или хотя бы поймет грешную мать. Скорее бы все кончилось. Но Джонс не спешил подвести черту, он только страдал, теперь уже молча, не стало даже чужих слов. Что-то сломалось и в Мери, она забыла о своей цели и смертельно зажалела Джонса. Все в нем взывало к жалости: модный твидовый пиджак и старомодное благородство, стрелка брюк, крахмальные манжеты, мягкие замшевые мокасины (бедный лондонский индеец!), вся его безупречность, которая ни от чего не защищает, его растоптанная радость возвращения в родной дом, представлявшийся ему крепостью.