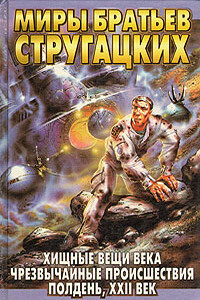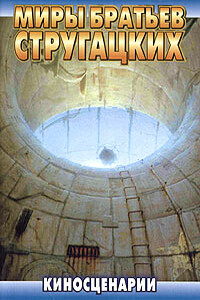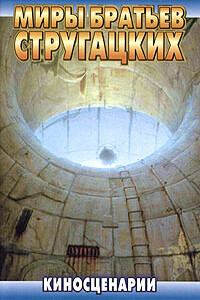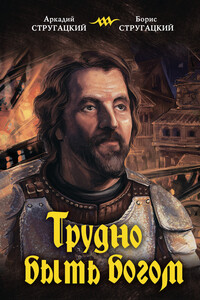<…> Именно в такие вот моменты [моменты экстаза у окружающих. — С. Б.] его особенно сильно мучило сомнение, правильно ли он выбрал путь в этом мире и не тратит ли он здесь драгоценное время, которое можно было бы использовать для помощи этому человечеству более рационально.
<…> Он даже несколько увлекся: мобилизовал всю мощь своих легких и голосовых связок, чтобы перекричать полк. «Вперед, бесстрашные!»…
В рукописи разговор перед допросом был не о диспуте на собрании:
«Ты будешь сегодня в собрании, Чачу?» — спрашивал командир полка. «У меня свидание», — ответствовал лейтенант, закуривши новую сигарету. «Напрасно, сегодня там будет мадам». — «Ты поздно спохватился. Я уже потерял ее благосклонность по твоей милости». — «Благосклонность — не деньги, — глубокомысленно заметил штатский. — Чем труднее ее потерять, тем легче найти». — «У нас в Гвардии это не так», — сухо сказал лейтенант. «Право же, господа, — капризным голосом произнес командир. — Давайте встретимся сегодня в собрании…» — «Я слышал, свежие креветки привезли», — не переставая рыться в бумагах заметил адъютант. «Под пиво, а? Лейтенант!» — поддержал его штатский. «Нет, господа, — сказал лейтенант. — У меня одно слово, и я его уже дал».
И после обеда военные спорят несколько по-другому:
Офицеры вернулись в прекрасном настроении, ковыряя в зубах и благодушно споря о способе не то приготовления, не то употребления какого-то кушанья. Самых крайних мнений придерживались адъютант и лейтенант Чачу. Адъютант требовал какой-то немыслимой тонкости и ссылался на довоенные поваренные книги, которых был большой знаток. Лейтенант же исходил из того, что была бы водка или, по крайней мере, пиво, а что касается жратвы, то в восемьдесят четвертом они лепили сырое тесто прямо на лобовую броню, а потом пальчики облизывали. Капитан и штатский стояли на умеренных позициях. Они считали, что гвардейский дух — гвардейским духом, но гвардейская кухня всегда была на высоте, что однако ни в какой мере не опровергает самодовлеющей ценности водки, пива, а также вина каких-то особых виноградников. Максим слушал их сначала даже с интересом, а потом вдруг его осенило, что эти люди только что приговорили человека к смертной казни и сейчас им еще предстоит судить женщину и тоже осудить ее на уничтожение или на каторгу. Он встретился глазами с лейтенантом, и тот, словно угадав его мысли, сыто и спокойно улыбнулся.
— Надо, однако, кончать, — спохватился капитан.
— Ну да, они же, бедные, ждут, — сказал лейтенант, глядя на Максима.
Капитан изумленно поморгал, пожал плечами и приказал адъютанту вызывать следующего.
В рукописи при допросе у террористов объяснение Максима было более беспомощным: «Я отпустил их, потому что нечестно расстреливать людей только за то, что у них болит голова. Поэтому меня расстреляли». Там же было и дополнение:
— Кто такой Гай? — спросил широкоплечий.
— Капрал Гвардии, мой друг. Он хороший парень, но он обманут, как многие.
— Почему обманут?
— Я уже говорил об этом. Вас ненавидят. Обвинения самые нелепые, но ненависть настоящая, непритворная. Я тоже не любил вас и считал врагами — до тех пор, пока не увидел на суде.
И далее, когда Максим говорит о недоверии к нему Чачу, в рукописи есть столь же беспомощное объяснение: «По-моему, лейтенант уже подозревал меня. Во всяком случае, я помню, что он страшно удивился, когда увидел, что я возвращаюсь».
В объяснениях Доктора в рукописи было и объяснение значения башен ПБЗ и охоты на выродков: «Тираны обязательно должны оправдывать перед массами свою тиранию, им надо как-то оправдать недостаток еды, разруху в периферийных районах, огромные военные расходы, непропорциональное распределение возможностей. Ведь после войны прошло больше двадцати лет, а ни одно обещание не выполнено, две трети страны лежит в развалинах… Вот во всем этом виноваты выродки, которые продались за хонтийское золото. Среди нас масса провокаторов, Отцы могли бы уничтожить большинство ячеек в несколько дней, но это им не выгодно, мы им нужны как громоотвод».
Магнитные мины в рукописи были толовыми шашками, поэтому не включали запалы, а поджигали шнур.