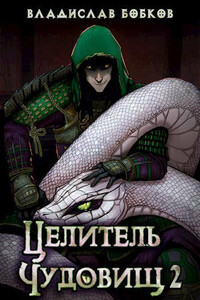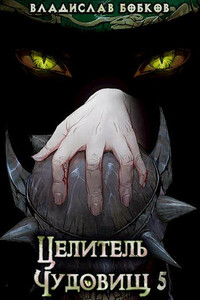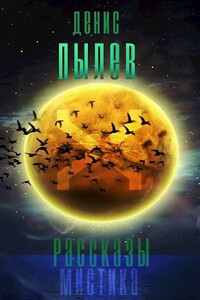Пока Алекс шел по улице, то тут, то там встречались убитые. Их никто даже не подумал оттащить прямо с середины улицы. И если этим не заняться в ближайшие дни, то город будет поглощен вонью сотен, разлагающихся тел. Большинство было даже без оружия, хотя Вульфс допускал, что его могли просто забрать.
Изредка дорогу пробегали загнанные, со страхом оглядывающиеся люди. Часто это были женщины. Почти каждая из них смотрела на мир потухшими блеклыми глазами, пытаясь прикрыть ладонями покрытые пятнами крови юбки. Их одежда была разорвана, порой настолько сильно, что они кутались в самые настоящие лохмотья.
Обычно женщин старались не убивать, но делало ли это их жизнь чуточку светлее? Алекс очень сильно сомневался.
Сколько он уже видел таких картин? Десятки. В каждом из захваченных городов, все повторялось вновь и вновь.
Алекс сумел привыкнуть ко многому, но столь неприкрытое сексуальное насилие каждый раз его немного задевало. Он не знал в чем была причина. Ведь к тому же убийству он уже привык. Может, будь здесь дедушка Фрейд, он бы обязательно растолковал в чем проблема. Алекс же надеялся, что это неприятие одна из последних вещей, что делала его землянином и человеком.
Его путь лежал к месту расположения его сотен. Две сотни – это очень много. И хоть в штурме погибло десятка два, остальным надо было где-то расположиться. Так, они заняли целую улицу с прилегающими домами.
Когда Вульфс все же пришел к этой улице его взгляду предстали ровные шеренги покачивающихся от пьянства людей, которые тем не менее терпеливо по очереди подходили к чанам с водой и ополаскивались. Чуть в стороне стояли десятки лоханей с водой, в которых женщины судорожно стирали покрытые кровью вещи бойцов.
Плохое настроение немного уменьшилось, и Вульфс даже улыбнулся.
Мужчина не привык отказываться от своих слов. Вот только одно дело заставлять мыться десяток бойцов. Когда же их было пять десятков на него косились и считали несколько странным.
А вот когда он отказался снимать правило мытья для двух сотен…
Но даже две сотни бойцов продолжали следить за собой. При этом Вульфс пришлось прилагать даже меньше усилий чем с полусотней.
Как же так вышло?
Все просто. Эта полусотня просто привыкла выполнять этот странный приказ. Затем же они сами стали замечать те приятные особенности чистоты, вроде отсутствия неприятного запаха и бравый вид своего отряда.
К тому же, лишившись своего запаха, они стали в разы лучше ощущать чужой, что им отнюдь не понравилось. Но одно дело чужие, и совсем другое свои.
Причем существовал еще и приказ лейтенанта. В итоге, уже достаточно организованная полусотня почти силой заставила толпу людей в три раза их больше слушаться. Да и приходили они волнами. Каждой новой большой партии новобранцев объяснялись правила жизни в отряде.
Постепенно этот ритуал стал их фишкой. Вечно вымытые, с красиво поблескивающими доспехами, их сотни привлекали внимание, в то числе и женского пола.
Другие отряды смотрели на это недовольно и частенько вспыхивали самые настоящие драки стенка на стенку. Правда, без оружия. За убийство соратника в лучшем случае полагалась виселица, в худшем же все могло закончиться и колом.
И тогда несчастном очень повезет, прибьют ли к колу этакий насест, чтобы он сел на него и подольше помучался, или под собственным весом опуститься ниже и быстро истечет кровью.
Апофеозом этих волнений стало то, что некоторые бойцы стали брать пример с рот чернокнижника. Причиной служила странная популярность бойцов у баб.
И удивительное дело, это работало! Так, волна мытья и чистоты не только не думала останавливаться, но и продолжала свое «чистое» дело, превращая ландскнехтов в самых главных чистюль этого проклятого мира. Возможно, не считая аристократов и некоторых церковников. Те тоже мылись чаще.
– Вольно! – махнул Александр сержантам, которые, увидев командира, вознамерились прервать процедуру помывки и построить солдат. – Чистота – это святое. Продолжайте!
– Так точно! – все вернулись к прерванной процедуре.
К Алексу подскочили заместители. Вастс светил огромным фингалом на пол лица. Явно что-то прилетело в шлем. Главное, что цел остался. Он был достаточно сообразительным, чтобы Вульфс огорчился его потерей.