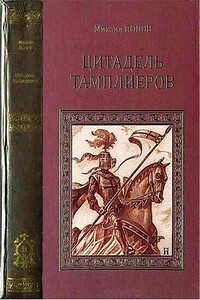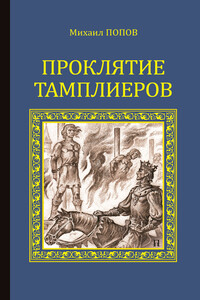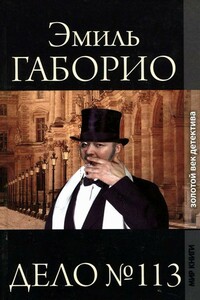Они расстались у елки. Она одна была между нами. Я старался не дышать.
Нина перебежала Тверской бульвар, спустилась в метро.
Рудик достал сигарету, несколько секунд смотрел вслед исчезнувшей любовнице, потом пошел к дому. Так и не закурив. Тоскуешь, гад! Он зашел в магазин. В «Армению». Меня уже тошнило от этой все воспроизводящейся смысловой рифмы. Я продолжал стоять за елкой. Туда-сюда мимо шли люди. Что мне теперь делать? Я даже не стоял, а висел – так был пуст, меня могло сдуть порывом ветра в сторону улицы под машины.
И тут я увидел удивительное сквозь просветы в кроне.
Нина перебегала Тверской в обратном направлении.
Она приближалась решительным шагом, распахнув полы своей роскошной белой дубленки, сдвинув на затылок дорогой расшитый платок, уверенно ставя ноги, как будто каждым шагом вдавливала в асфальт металлическую кнопку.
Я знал эту походку. Это – охота, это принятое решение.
Возможно, Нина что-то решила сообщить Гукасяну, но у меня мелькнула мысль, что она заметила меня и теперь хочет выяснить отношения со мной.
Я пришел в ужас.
Совершенно не знал, хочу ли этого выяснения. Знал только, что страшно, окончательно, бесповоротно убит, раздавлен.
Стал еще глубже запрятываться в холодную хвою.
Нина приближалась. Она уже была так близко, что я сквозь переплетение веток видел блеск ее глаз. И в этот момент, она резко повернула направо, и пошла по ступенькам вниз на бульвар.
Ни то ни другое. Ни я, ни Гукасян. Может, к себе в ИМЛИ, на Воровского, но уже почти ночь.
Краем левого глаза я увидел, что распахивается дверь «Армении» и выходит Рудик. Держа в руках пакет. От него до Нины было где-то тридцать, даже меньше шагов. Поверх автомобильных крыш замерших перед светофором, ему была отлично видна сцена, на которой разворачивались события. Я тоже, прячась от приближающейся Нины, зайдя елке слишком в тыл, был у него как на ладони. И, удивительно, в этот момент никого больше на этом оживленнейшем куске московской земли больше не было.
Но Рудик вел себя странно: склонив голову, рылся в пакете, вынесенном из магазина. Что, проверял количество звездочек на бутылке?
Наш динамичный любовный треугольник застыл в мгновенном равновесии и тут же развалился, освобождая предоставленную случаем сцену.
Я осторожно вернулся на противоположную сторону елочного тела, Нина решительно процокала каблуками по ступеням и ступила в тень бульвара, не увидев ни меня, ни Рудика. Она явно была занята мыслями, не имевшими отношения ни к нему, ни ко мне. Он остался стоять со склоненной головой у стеклянной витрины, все роясь и роясь в пакете.
Дождавшись, когда белая дубленка уплывет достаточно далеко по сумрачному бульварному туннелю, я бросился на узкую дорожку, идущую вдоль бульвара параллельно основному руслу.
Несчастный Рудик меня не заметил, и я с облегчением забыл и о нем, и о его странном поведении и стал красться за призрачной белой фигурой.
Если она обернется, шеренга деревьев, отделяющая основную аллею от моей боковой, пусть и редкая, меня прикроет. На моей стороне свежий, прохладный мрак и каждый погасший фонарь мне брат.
Если бы меня спросили, почему я так боюсь быть замеченным, я бы рассердился, но объяснить ничего не смог бы. Просто шел следом, и все.
Куда? Зачем? Обнаружить себя я бы не посмел. Почему я здесь? Что я делаю в эту пору на бульваре?
Но не вечно же шляться за нею вот так, безмолвным соглядатаем?!
Все отвратительное, что я мог узнать, я уже узнал. Что мне нужно еще разведать?
Честно говоря, мне было все равно, куда она сейчас торопится. Кажется, где-то здесь живет ее подружка Аллочка, актерка кукольного театра, забавная матершинница, вечно брошенная каким-нибудь любовником.
Кстати и парикмахерша, одна из тех двух специалисток по подтяжкам, как раз стрижет где-то в переулках, у нее студия под крышей. Надо добираться на шестой без лифта, и все равно очереди.
Мне просто надо было ее куда-то «сдать» на хранение, пока я один в тишине соберусь для разговора.
Нина шла все так же быстро. Миновала место, где со временем будет памятник Есенину, но в ту зиму об этом ничто на это не намекало.