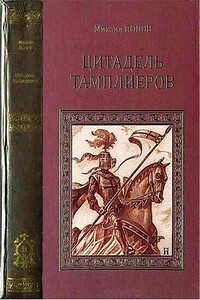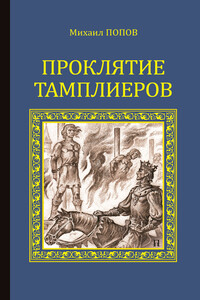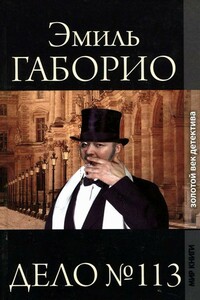Было даже слышно, как мается Марченко на том конце разговора. О, я его понимал, но нисколько не жалел. Он не может решить, насколько опасно для него выйти из камеры, так пусть сидит себе и взвешивает возможные последствия хоть до полного одурения.
Я не собираюсь развеивать его подозрений, что началась мстительная охота на милиционеров-убийц какого-то советского графа Монте-Кристо, отсидевшего по ложному обвинению двадцать лет, выигравшего в казино миллиард и теперь тратящего его на подкуп лихих дальнобойщиков, чтоб те наезжали на оборотней в погонах. Я не прощу Марченке своего вонючего соседа и не польщусь на его бредни о расплывчатом мировом правительстве.
Не только не стал развеивать жгучего сомнения в его душе, но, наоборот, кое-что сгустил. Живо описал ему странное поведение Модеста Михайловича на фундаменте масонского храма. Пошел даже на небольшой обман, сказал, что к зданию «алхимической лаборатории» меня не пустили, хотя я и всячески пытался к ней прокрасться.
Что-то там в «Аркадии» нечисто – таков был смысл моих намеков. Марченко нарастающе сопел как вентилятор, когда всю его мощь вызывает работающий на пределе своих возможностей процессор.
– «Аркадия» – это современное название, сам Кувакин называл свое заведение «Эсхатон».
– Да-а, – почти игриво спросил я, – а что это значит?
– Еще не знаю, но тебе придется поехать туда еще раз.
Такого поворота я не ждал и не хотел, и, как оказалось, был где-то в глубине готов к отпору.
– Нет уж.
– Что?!
– Не ревите на меня. Я и так сделал больше, чем был обязан. Я не желаю оказаться в положении Ипполита Игнатьевича.
– Так ты считаешь, что это не инсульт, а они сами его обкололи и тебе так предъявили?
О Господи, опять съезжаю в старую яму. Марченко мне напомнил гадину-мать из фильма «Чужой», которая в самый последний момент хватает за ногу уже почти спасшуюся героиню.
– Ничего я не считаю. Никуда больше не поеду. До свидания.
Надо было сразу вырубить трубу, за две секунды, что я медлил, подполковник успел крикнуть, что с моей стороны подло бросать в беде раненого старика.
После разговора настроение у меня стало таким же плохим, каким оно было у Марченко в его начале. Прилипчивая преступная сволочь. Не может испугать, так давит на моральную педаль.
Но я больше не куплюсь.
Объективно, могу я помочь дедушке? Нет. Так нечего и дергаться.
И тут поступил телефонный удар с другой стороны.
Нина!!!
Ах, опять забрать Майку?
Я вспомнил про Петровича и резко отказался. Надо знать меру. Не договаривались, что я буду возиться с ней постоянно!
– Помнишь, что я тебе обещала, если ты откажешься?
Очень, очень хотелось просто ее послать, но я хорошо помнил, что она мне обещала, я с резкой интонации сполз на интонацию просительную и что-то запел о друге, о сыне и его почке, и о том, что может случиться непоправимое.
– Мне плевать, она будет ждать тебя у памятника Тимирязеву в пять.
И тут рвануло:
– И мне плевать.
И я бросил трубку. В мусорную корзину. Я знал: там полно бумаг, и она не разобьется. Нет, хватит! Ну, займу я эти денежки, постепенно выплачу алименты. Продам машину! Куплю что-нибудь подешевле. Возвращаться из «тойоты» в «девятку» не хочется. Ну что, я за гидроусилитель руля продам свою бессмертную душу?! Опять же – поддержка отечественного производителя.
В мусорной корзине обижено задребезжало, как будто прибор осознал, где находится, и выражал неудовольствие.
Ладно, скажу, что готов подъехать к шести тридцати – тоже кое-что. Родю-то мы за пару часиков обломаем, надеюсь.
– Я в машине, – сказал Петрович.
Через час мы сидели на кухне дома у Петровича. Втроем с Родей.
Парень мне не нравился.
Он был спокоен. Пил только минеральную воду, как будто намеченная им в подарок почка уже ему не принадлежала. Отвечал на наши словесные наскоки трезво и ясно.
На предмет совместимости-несовместимости он тесты все уже прошел.
– Когда?! – вскинулся отец.
Родя пожал громадными плечами.
– Я просто не говорил.
– Не хотел радовать раньше времени?
Сын опять ответил плечами.
Кстати, он переоделся. Никакой кожи, заклепок, башмаков с протекторами от колесного трактора, никаких цепей с серебряной дребеденью разнокалиберных символов на шее. Тоже, наверно, из опасения, что врачи не примут орган, исходящий из такого навороченного тела.