Не давая никому опомниться, Пятиплахов втолковал директору, что надо сейчас же включить одну из машин и провести сеанс с живым человеком. В «космонавты» он предложил меня.
Я сумел только выпучить глаза, так же, впрочем, как и директор. Мы смотрели друг на друга и были очень похожи с ним на две капсулы. А Пятиплахов бодро вываливал свои аргументы. Они были разные: и веские, и глупые, и те, которые еще надо обдумать.
– Я все равно пока не могу лезть внутрь, вы, Модест Михайлович, нуждаетесь в моей поддержке, а Евгений Иванович – посмотрите, в каком он состоянии, он на грани нервного срыва. Он за гранью нервного срыва!
В первый момент мне хотелось что-то возразить. Но уже во второй я должен был согласиться, что нуждаюсь в какой-то поддержке своей расшатанной психической конструкции. Пусть даже и в «промывании мозгов». Какая великолепная идея: вычистить всю ненужную грязь из башки! И тогда, наверно, уймется эта нудная, ноющая тревога, от которой нет никакого спасения вот уже сколько дней. Пострадает личность? Да пусть, черт с ней, страдает! Что уж такого в моей личности ценного? К тому же не я первый. Сколько там перебывало народу! – вспомнил я список Пятиплахова. Это ведь даже не операция, это с гарантией возврата.
Я согласился раньше Модеста Михайловича. Но и тому от генерала было не отбиться. Он умел убеждать, тем более что директор изводил себя мыслью о дочери, а генерал умело поворачивал в его сердце рукоять этой тревоги, когда было необходимо. Как-то он сумел связать накрепко вместе идею моего засовывания в капсулу с фактом влюбленности дочери директора в спящего неподалеку экстремиста.
– Раздевайтесь, – в конце концов было сказано мне.
Тут я вдруг задергался. Не будут ли со мной делать чего-нибудь… Когда стал упираться я, тут уж включился директор, словно ему стало обидно за то, что кто-то смеет отвергать его помощь и в ней сомневаться.
Пришлось всего лишь скинуть пиджак, рубашку и ботинки, подогнуть брюки. Сестры работали в четыре руки, меня вмиг облепили датчиками, как при кардиограмме, да еще и кучей неизвестных приспособлений. Внутри капсулы было достаточно просторно, мое ложе, видимо, электрически подогревалось, руки и ноги располагались вольно, нигде ничего не жало, не давило. Сестра, безболезненно запустившая мне в вену катетер, мило, подбадривающе улыбнулась и прошептала – не волнуйтесь, это почти приятно! Я тоже попытался улыбнуться в ответ. Судя по ее лицу, на моем выразилось что-то несообразное. Это потому, что в самый момент улыбки на меня накатила мысль: а зачем ты все это затеял, Евгений Иванович? Ты во что впутываешься?! Но поздно, поздно что-то менять. Начала набегать на мое лицо тень – это опускалась крышка. Чей-то голос – не директора, не генерала, не медсестры, сказал: «Поехали». Наверно, это был голос самой медицинской машины.
* * *
Модест Михайлович и Пятиплахов стояли рядом и смотрели на табло, встроенное в бок капсулы, утыканное лампочками и маленькими экранами, на которых резвились цифры и дергались стрелки. Капсула издавала негромкое, солидное гудение. В квадратном окошке, ближе к носу капсулы, хорошо просматривалась голова журналиста. Он лежал с закрытыми глазами, и выражение лица у него было безмятежное.
Сестры деликатно держались в некотором отдалении, чтобы не мешать.
Особенно пристально всматривался в застекленную амбразуру генерал. То прищуриваясь, то втягивая и задерживая воздух, то выпуская его длинной струей. Было понятно, что ему тяжело, но он считает нужным держаться.
Модест Михайлович покачивался с носка на пятку и обратно и дергал щекой. Мыслями он был далеко. Но не все время. Вернувшись в здесь и сейчас, он косился на генерала и прикусывал нижнюю губу.
– Послушайте, – сказал он неожиданно.
– Что? – спросил генерал, не отрываясь от однообразного зрелища.
– Где вы взяли этот дурацкий список?
– Какой список?
– Который мне дал этот псих. Список ведь от вас, правда же?
– Правда, – равнодушно признал генерал, так и не повернув головы.
– Что он означает?
– Я откуда знаю? Вернее, забыл. Взял из папки. Список и список. Мало ли у меня в документах всяких списков.





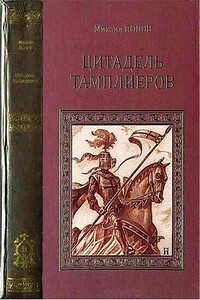

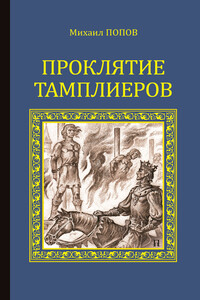
![Расследования Берковича 11 [сборник]](/uploads/books/images/b4/b4d1bcadf8f8da8bb22e7a1f6b21939ba9e28efb.jpg)
![Расследования Берковича 9 [сборник]](/uploads/books/images/66/669e677c3840e37f130f6b5c3f11e9adef03d3f3.jpg)

