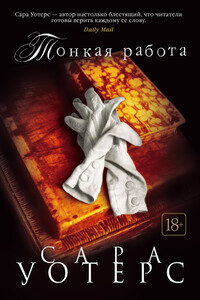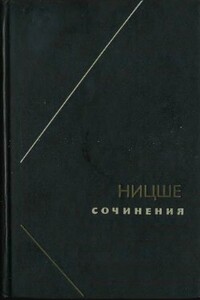Я помню кудрявого мальчишку, у которого и впрямь было «слишком развито воображение». Его звали Келли, он жил на нашей улице и был немного странным. Мне было лет шесть или семь, я возвращался из школы, когда он вышел из-за платана, приставил что-то промеж моих лопаток и сказал: «Не двигайся, а то кранты». Я послушно застыл в ужасе и неизвестно как долго простоял во власти Келли, гадая, отпустит ли он меня, и понятия не имея, что это он приставил к моей спине. Сказал ли он еще что-нибудь? Вряд ли. Это был не грабеж – у меня никто ничего не отнял, то был захват в его самой рафинированной форме, когда весь смысл – собственно в удержании. Спустя пару потных минут я решил рискнуть жизнью и побежал, оглядываясь через плечо. В руке Келли держал старый, проржавевший водопроводный кран. Так почему же романистом стал я, а не он?
Ренар в своем «Дневнике» выразил одно замысловатое желание, сложное не только психологически, но и в плане смысловой нагрузки. Ему хотелось, чтоб его мать была неверна отцу. Считал ли он это справедливой местью за отцовскую пытку молчанием; или от этого мать стала бы более раскованной и приятной в общении; или неверность собственной матери нужна была ему, чтобы еще более снизить ее оценку? Когда моя мать уже овдовела, я написал рассказ, действие которого происходит в узнаваемых декорациях родительского загородного домика (позднее я открыл для себя, что в терминологии агентов по недвижимости это называется «шале супериор»). Вдобавок я использовал базовые схемы родительских характеров и типов взаимодействия. Отец (постарше, тихий, ироничный) заводит роман с вдовой доктора, живущей в соседней деревне; когда об этом узнает мать (раздражительная, острая на язык), она бьет мужа тяжелой французской сковородой по голове – такую нам предлагают версию, хотя полной уверенности в ней нет. Все действие – и все страдания – мы видим глазами их сына. И хотя рассказ мой основывался на подслушанной где-то истории про семидесятилетних стариков, которую я просто развил на почве семейной жизни собственных родителей, я не обманывал себя относительно своих намерений. Я хотел дать отцу посмертный – задним числом – шанс немного повеселиться, возможность пожить другой жизнью, подышать полной грудью, материнский же характер я гипертрофировал до безумных и преступных наклонностей. Не думаю, что отец поблагодарил бы меня за этот литературный подарок, нет.
В последний раз я видел отца 17 января 1992 года, за тринадцать дней до его смерти, в больнице Уитни, что минутах в двадцати езды от дома моих родителей. Я договорился с мамой, что на этой неделе мы навестим его по отдельности: она в понедельник и среду, я в пятницу, она в воскресенье. Я планировал стартовать из Лондона, пообедать с ней, после чего навестить папу и уехать обратно в город. Но когда я приехал домой (место, где жили родители, я по-прежнему называл домом, хотя у меня давно уже был свой дом), мама отменила все наши договоренности. На то были свои причины: она говорила что-то про белье и еще про туман, но главной причиной была, конечно, она. За всю свою взрослую жизнь я не припомню ни одного случая – кроме той специально подстроенной литературной поездки по магазинам, – когда бы нам с отцом дали побыть наедине хоть какое-то время. Мать, даже если ее не было в комнате, присутствовала всегда. Едва ли она боялась, что о ней станут говорить у нее за спиной (в любом случае, о ней я бы хотел поговорить с отцом в последнюю очередь); просто ни одно событие в доме или за его пределами не считалось действительным без ее присутствия. Поэтому она всегда и присутствовала.
По приезде в больницу мама поступила следующим – опять-таки весьма характерным для нее – образом, отчего тогда меня передернуло, а теперь, вспоминая об этом, я прихожу в ярость. Когда мы подошли к папиной палате, она сказала, что зайдет первой. Я подумал, что она хочет проверить, все ли у него «прилично», или по какой-либо иной супружеской надобности. Но нет. Оказывается, она не сказала отцу, что сегодня приеду я (но почему – надзор, информационный