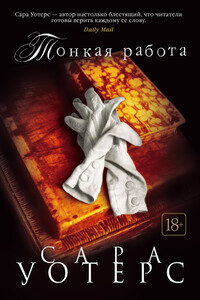Стравинский сказал: «Гоголь умер пронзительно крича, а Дягилев умер смеясь, но Равель умирал постепенно. И это хуже всего». Он был прав. Художники умирали и более жестокими смертями, с безумием, ужасом и банальным абсурдом (Вебер получил пулю от американского солдата после того, как степенно вышел на крыльцо раскурить сигару), но мало найдется таких же мучительных, как у Равеля. Что еще хуже, ей предшествовал странный прообраз – музыкальное пред-эхо – в виде смерти французского композитора предыдущего поколения. Эмманюэль Шабрие пал жертвой третичного сифилиса в 1894-м, в год парижской премьеры его единственной попытки серьезной оперы – «Гвендолины». Постановка этого произведения – возможно, единственной оперы, действие которой происходит в Британии VIII века, – заняла десять лет; к этому времени болезнь Шабрие была в финальной стадии, а его сознание – в далекой сказочной стране. На премьере он сидел в своей ложе, принимая аплодисменты и улыбаясь, «почти что не понимая по какому поводу». Порой он забывал, что опера его сочинения, и бормотал соседу: «Очень хорошо, правда, очень хорошо».
Эта история была хорошо известна следующему поколению французских композиторов. «Ужасно, не правда ли, – любил говорить Равель, – отправиться на представление „Гвендолины“ и не узнать собственную музыку!» Я помню, как мою подругу Доди Смит уже в преклонном возрасте ласково, доброжелательно спрашивали: «Доди, вы ведь помните, что когда-то были знаменитым драматургом?» На что та отвечала: «Да, думаю, что да» – тем же тоном, каким, по моим представлениям, мой отец ответил матери: «Думаю, что ты моя жена». Модистка может не узнать свою шляпку, дорожный рабочий – ограничитель скорости, писатель – свои слова, а художник – полотно; и это уже довольно болезненно. Но особенно острая боль, для тех, кто становится этому свидетелем, – когда композитор не в силах узнать собственные ноты.
Равель умирал постепенно – на протяжении пяти лет, – и это было хуже всего. Сперва его упадок, вызванный болезнью Пика (форма церебральной атрофии), носил пугающий, но общий характер. Он стал забывать слова, начали отказывать моторные функции. Он брал вилку за зубцы, он уже не мог оставить росчерк пера, он разучился плавать. Когда он отправлялся на обед, дворецкий предусмотрительно пришпиливал его адрес на подкладку пальто. Но затем зловредная болезнь приняла узкую направленность и стала разить Равеля как композитора. Он отправился на запись своего струнного квартета и сел в аппаратной, откуда предлагал музыкантам поправки. После каждой части его спрашивали, не хочет ли он прослушать ее еще раз, он отказывался. Запись прошла быстро, и все в студии были довольны, что справились за день. В конце Равель повернулся к продюсеру (и наша догадка о том, что он сейчас скажет, не может уменьшить эффект этих слов): «Действительно очень хорошо. Напомните мне, кто композитор». В другой раз он отправился на фортепианный концерт. Он слушал выступление с явным удовольствием, но когда все в зале стали хлопать ему, он решил, что они обращаются к сидевшему рядом с ним итальянскому композитору, и присоединился к аплодисментам.
Равеля приняли два ведущих французских нейрохирурга. Еще одно «что бы вы предпочли». Первый признал его неоперабельным и объявил, что здесь не следует препятствовать природе. Второй согласился бы с ним, будь пациентом кто угодно, кроме Равеля. Но если есть хотя бы малейший шанс – еще несколько лет для него, еще немного музыки для нас (музыки, которая есть «лучший способ переваривать время»)… Итак, вскрыли черепную коробку композитора и обнаружили, что болезнь охватила обширные участки и лечению не подлежит. Десять дней спустя, с головой в больничных бинтах, Равель умер.
Лет двадцать тому назад меня попросили поучаствовать в книге о смерти в качестве интервьюируемого. Я отказался, ведь я сам писатель, и мне не хотелось надиктовывать кому-то материал, который мне может понадобиться самому. Когда книжка вышла, я не стал ее читать, наверное, из суеверного – или вполне рационального – страха, что кто-нибудь из ее соавторов мог уже внятно выразить мысль, к пониманию которой я только лишь приближался. Не так давно я принялся осторожно просматривать первую главу – интервью с неким Томасом. Довольно скоро, буквально на второй странице, стало очевидно, что этот Томас есть не кто иной, как мой зацикленный на смерти друг и непримиримый отрицатель свободной воли Г.