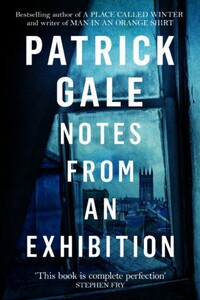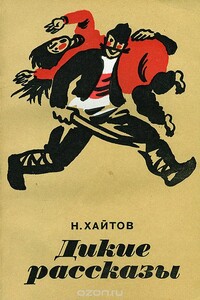Нелегко протиснувшись в щель упертой в торец стола двери, она усаживалась на островке моего кошмара и со знанием дела, внимательно закурив, начинала излагать свой собственный вариант обустройства. Я, постепенно отходя, едва слушал и злобно поглядывал на стул, на котором сидела Милица, соображая, куда бы еще его можно с пользой из-под нее приткнуть, чтоб предупредить очередное вспучивание места...
Однажды я так изнемог, что сел на пол и заплакал. Слезы брызнули по щекам, как ручейки сока из сжатой горсти винограда.
Я размазывал их кулаками по скулам, размазывал с силой, словно наказывая себя. Увы, сколько бы я ни плакал, облегчения не наступало. Но все-таки плакать было лучше, чем беситься от страха, мечась сломя ум по комнате. Я ревел от души, сидя на полу по-турецки и несильно раскачиваясь. Плач не мешал думать, особенно вспоминать. Вспоминалась всякая всячина. Например, как мама когда-то сердито возражала моим детским слезам: “Ничего, побольше поплачет, поменьше пописает...”
Я вспоминал эти ее слова и улыбался.
Время от времени я оглядывал плывущую сквозь слезы комнату, и она мне казалась чревом большой рыбы. Я думал о Ионе, о том, как ему, должно быть, было странно находиться в брюхе кита. Мне было интересно, чувствовал ли он, как и я, свое место живым? Насколько мужественно он себя вел? неужели, как и я, слабоумно метался и пробовал что-нибудь изменить...
Далее я таинственно думал сквозь слезы: почему рыба? Почему Иона оказался именно в сердце морей, а не, скажем, под землей или того еще хуже – в воздухе? Я думал об этом напрасно и не находил ответа. Потом вспомнил, что суть в пустоте. Что именно в сердце морей всего ясней пустота...
И тогда рыдания еще сильней захлестнули меня. Я поднялся с пола и стал оборачиваться во все стороны, чтобы повернуться лицом.
Место мешало мне.
И я понял, что не могу обернуться лицом в этом месте...
И тогда как ошпаренный выскочил наружу.
Позже я, конечно, научился экономить свою нервную деятельность, проверив еще раз попутно, что инстинкт самосохранения – подлинный источник прогресса. Теперь, только завидев, как с темени и затылка, спускаясь ниже к шейным позвонкам, накатывает первое прикосновенье пучины, я, обхватив себя руками и не позволяя им ничего в комнате трогать, в чем был выскакивал в коридор и выстреливался им в кухню. Там, приходя в себя, без нужды ставил чайник и, заламываясь, как от мышечной боли, минут пять наворачивал петли шагая. Жилички шептались: “Надо ж, думает как, малахольный!” – но постепенно выдворялись, туша плевком керосинки, незлобно и даже с некоторым уваженьем...
О, сколько кипятка я выхлебал впустую, глядя в окно – и ничего не видя – на угол Телеграфного и Сверчкова, пока не догадался часть запасов сахара и заварки всегда оставлять в шкафчике Милицы!
Иногда, не имея сил дольше глохнуть от ужаса в комнате, я – вместо кухни – выскакивал в хорошую погоду и, вывалившись вложенными дворами на улицу, долго и со вкусом слонялся по бульвару... Бывало, чуя, что приступ может запросто вновь повториться, как бы невзначай вскакивал на подножку тринадцатого маршрута и прикатывал в университет, где, отсидевшись в библиотеке, поднимался в кафедру и допоздна резался с безруким сторожем в шахматы. При этом, двигая за себя и за него фигуры, я все еще чувствовал в кончиках пальцев неясную, мешающую дрожь, словно план моей комнаты, незримо проступая сквозь клетки доски, налагал свои искажения на силовое поле игры, вмешиваясь в пучки линий возможных атак и защиты подлой угрозой возникновенья провала – то в центре, то на флангах, то в абсурдно разверзающемся потолке...
Михалыч обычно проигрывал и канючил: “Вот вам бы, Лексей Василич, вслепую со мною сыграть или форой какой потрафить, а то самим, поди, не интересно уж боле...”
Я уступал ему ферзя, но тогда как-то особенно легко выигрывал.
Вернувшись домой после таких катавасий, я непременно – на случай повторного сюрприза – ложился спать не раздеваясь. С тех пор, кстати, у меня осталась привычка: надевать на ночь не пижаму, но что-нибудь, в чем не слишком жарко и в чем было бы сподручно срочно оказаться снаружи...