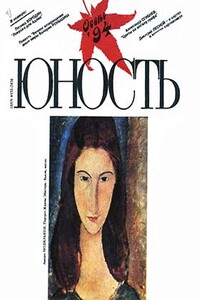Синячище во всю скулу только приумножал боевой вид грека. Остальные имели вид вполне обреченный. Карелиас мне подмигнул, улыбнувшись. Что ж, думаю, посмотрим.
Долго копошиться не стали. Расставились в шеренгу на возвышении и подровняли всю компанию к самому краю обрыва. Как футбольный арбитр «стенку».
Кроме старика, одного за другим ударами в грудь опрокинули вниз.
Ни звука.
Стефанов стоит в черном протуберанце, помещаясь ростом в диск солнца.
Катя кидается ко мне. Ее оттаскивают от прутьев.
Вынимают меня из клети и подставляют к старику над срывом.
Вслед за мной вырываются в воздух птицы. Хлоп-хлоп-хлоп – взмывают и кружат в фиолете золотистыми блестками грудок.
Внизу и вверху такая бездна, что смотреть темно.
Стефанов тоже оглядывается, – видно, что и ему поплохело.
Горбун с разбегу бьет мне поддых калганом.
Я едва отдышался, сложившись пополам.
Леонард выходит напротив. Преображается. Вроде как хочет нас расстрелять. Соображаю – чем?
Стефанов малодушно шепчет:
– Глеб, прощайте.
Я беру его крепко под руку, не отвечаю.
Мне некогда, я слежу, как все будет.
Кортез хватает рукой близкое солнце и вырывает полную горсть. Размером со снежок, кусок солнца помещается у него в руке. Метает прямехонько в переносье. Снаряд летит, как планета в объектив телескопа. Я слепну и кричу от боли:
– А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ш-м-а-а-а-аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...
И вопль мой, от меня отделившись, бьется по всей округе. И тогда прах отзывается пеньем, на призыв он встает в стенах и ломает мрамор. Прах взвивается шквалом, руша полы, ступени. Гигантская фуга взрыва сотрясает изнутри Дом. Горячим нутром раздаются мерзлые мшары, и топь, пучась, глотает потоки железобетона. Прах поет и, взвиваясь черной метелью над взрывом, вьется. Кругом черным-черно, и я, обнимая старика за шею, подтягиваю за собой, пытаюсь на ощупь ползти.
Точка.
Далее тьма, и Катя, склонившись, целуя, шепчет:
– Братик, мой братик.