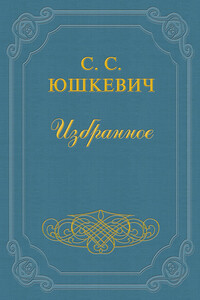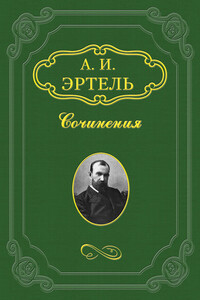Напрягая последние силы, отец удержал камень и, тяжело ступая деревянными башмаками, побрел дальше. Кажется, у него болит нога — ступня обмотана грязной бумагой, обрывки торчат из башмака.
Цап замер, оцепенев. Стоит и смотрит, сытый, праздный.
Так продолжалось с утра до вечера, изо дня в день…
А вечером в казарме все как обычно: крик радиоприемника, вонь, хохот солдат, портрет фюрера на стене. Штукатурка на потолке раздумывает: осыпаться или нет.
Завтра он пойдет к коменданту и попросит переместить его. «Герр комендант, там очень резкий ветер, на этом пригорке». Нет, не так. «Герр комендант, во имя Третьего рейха прошу перевести меня на более ответственный участок!» Нет, и это не годится. Могут послать на фронт или, чего доброго, назначить надсмотрщиком в лагерь. Вот если бы старика перевели в другое место! Все-таки каждые полчаса видеть родного отца здесь, в лагере, — это слишком. Или терпеть до конца? Даже это? Ради спасения своей жизни? Дрожь берет. С чего, спрашивается? А вот на лице у отца ни тени страха…
Снова утро. Сколько дней уже продолжается эта страшная игра? Кажется, он начинает привыкать. Теперь, когда Янош видит отца, у него не трясутся ноги, не дрожат внутренности и автомат он держит увереннее.
Отшагал первые пятьдесят метров. Семьдесят строевых шагов. Отец поравнялся с сыном. И впервые за эти дни Янош-младший услышал голос Яноша-старшего:
— Как спалось, сын? Мягкая ли у тебя подушка?..
А может, это ему только кажется? Снова отец проходит мимо. На плече у него железная балка. Он утирает рукой кровь. У него разбито ухо.
— Достаточно ли сладкий был кофе, сын? Не слишком ли горячий?
Давно это было. Десять или двенадцать лет назад. Уходя на работу, отец всегда успевал сказать сыну несколько нежных слов. Но к чему эти воспоминания? Разве он виноват в том, что отца бросили в лагерь? Конечно, он сопляк по сравнению с отцом, но кто в последнее время предостерегал его, просил быть осторожным? Отец тогда выругал Яноша. Ну а сейчас? Кто оказался прав?
Снова отец рядом:
— Не холодно ли тебе, сын? Шинель теплая? Хорошо ли завязан шарф?
Пятьдесят метров. Семьдесят строевых шагов. Ох, эти вопросы! Нужно поразмыслить над тем, как бы присутствие отца, не дай бог, не навлекло на него, Яноша, неприятности! Тогда — прощай мельница. Ну а если все обойдется благополучно, отца можно будет взять к себе на мельницу. Простит же он его в конце концов, обязательно простит. И все будет по-старому.
Вот уже несколько дней, как Янош приносит с собой полбуханки хлеба и кусок маргарина, чтобы незаметно передать отцу. Но никак не может улучить подходящей минуты.
Шевелятся лохмотья. Земля темнеет от крови. До предела напряжены мускулы. Доносятся вздохи, проклятия. Где-то с хрустом ломается кость. Заключенные носят железнодорожные рельсы.
Отец с ними. Янош Цап-младший успокаивается. Сегодня передать хлеб невозможно. Разве что после обеда. Или еще лучше — завтра.
Отец в группе арестантов проходит мимо него.
— Я подержу, а ты чуть отдохни! — Вот это голос отца. Но не к сыну обращены его слова.
Нечеловеческая тяжесть ложится на плечи старика. У другого подкосились бы ноги. Но отец выдерживает.
Медленно, словно улитка, ползет вереница узников. Весь ряд напряжен как струна. Вот-вот где-то порвется. Эсэсовец ворчит. Он снова недоволен. Бегает с дубинкой взад и вперед.
— До чего ленивы эти твари! — обращается эсэсовец к Яношу Цапу, ища у него поддержки. — Пусть подыхают, если не хотят работать!
— Los, los! — через силу выдавливает Янош.
Строительная площадка пустеет. Сброшенные на землю рельсы плывут куда-то вдаль. Цап поправляет плечевой ремень.
Вот и еще день прошел. Очень не хочется возвращаться в казарму. После кошмарного, мучительного дня так приятна эта тишина. Не хочется слушать военные марши, вдыхать вонь, смотреть на портрет фюрера. Цап чувствует, что попал в ловушку. Круг замкнулся — ни туда ни сюда. Ему кажется, что среди беспорядочной груды камней еще шевелятся полосатые фигуры узников. Они следят за каждым его движением. Страшно.
А вечером он играет на бильярде.
— Ты, Яни, играешь на радость немцам. Смотри, они выигрывают у тебя партию за партией! — говорят ему эсэсовцы-румыны.