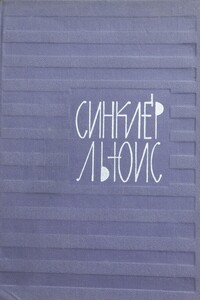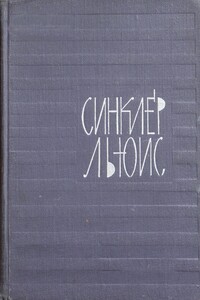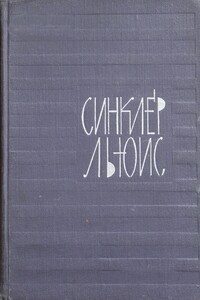О возможности перехода политических процессов в силовое противостояние говорили лидеры центральноазиатских республик. Например, на заседании Политбюро ЦК КПСС 30 января 1990 года при обсуждении вопроса о подготовке референдума о сохранении СССР Ислам Каримов поддержал мнение прибалтийских руководителей о том, что референдум может привести к обострению национальных отношений. Тогда он был сторонником Союза и проведения референдума, но предупреждал, что «в процессе подготовки референдума страсти разгорятся. Будет вестись обработка населения. Среди него есть какая-то часть, которая сегодня сидит спокойно, но говоря о которой нужно помнить узбекскую пословицу "Не наступай на хвост спящему льву". Если сядем им на хвост, то они начнут будоражить. Какой-то процент населения, возможно, себя проявит. Почему? Я убежден, что в Узбекистане обстановка ухудшится. И лучше провести его сегодня, чем завтра. Потому что завтра появятся силы, которые будут говорить о пантюркизме… Прибалтика – это одно дело, а Средняя Азия – другое. У нас, если этот взрыв произойдет, то его трудно будет остановить. Большой кровью он обойдется».[92]
Начало 90-х годов XX века характеризовалось тем, что впервые на политическую арену Центральной Азии стали выходить различные политические движения. Они не всегда были демократическими и даже чаще всего – не были. Под флагами борьбы с советской системой выступали движения, считавшиеся исламскими, освободительными, демократическими, а иногда и просто ставленники криминальных структур. Тем не менее это была альтернатива существующим режимам. И в большинстве случаев исламизм был идеологической альтернативой, но не политической программой, ведущей к установлению фундаменталистских режимов. В конце 80-х и начале 90-х годов в политической оппозиции Центральной Азии все-таки преобладали демократически настроенные лидеры. И напор их был достаточно серьезным. Исламская оппозиция заняла лидирующие позиции в Таджикистане. Казахстанский Верховный совет, избранный на альтернативной основе, представлял собой реальный центр власти. Несмотря на заверения руководителей угольной отрасли, казахстанские шахтеры поддержали своих российских коллег и вышли на улицы Караганды. ЦК Компартии Кыргызстана был отстранен от власти, а президентом был избран тогда демократический альтернативный кандидат, академик А. Акаев. В странах региона стремительно росла численность партий, общественных объединений и неправительственных организаций (НПО). Появились и набирали популярность негосударственные издания. В парламентах заседали независимые депутаты, активно участвовавшие в дебатах. В органы власти приглашались представители науки, журналисты, предприниматели.
Казалось бы, набирает силы благоприятная тенденция, которую необходимо поддержать. Опыт Кыргызстана, который представлялся в начале 90-х годов XX века «островком демократии», внушал определенные надежды. Определение «островок демократии» было с максимальной возможностью использовано режимом А. Акаева для получения различных преференций. Тем не менее оно вызывало скепсис у жителей этой страны. Кыргызы видели стремительное падение собственного уровня жизни по сравнению с Узбекистаном и Казахстаном, неэффективность государственной системы, слабость жизненно важных институтов – социальной политики, образования, системы жизнеобеспечения, правопорядка и т. д. Тем не менее в Кыргызстане демократизация зашла дальше, чем в соседних государствах. Но время показало, что на деле это была не демократизация, а ослабление государства как регулирующего органа при отсутствии ресурсных возможностей вести активную экономическую политику. Внутренние противоречия – клановые, географические, экономические, социальные, региональные и многие другие – нашли свое внешнее отражение в формировании более 100 политических партий, что весьма чрезмерно для пятимиллионной страны. Но такая раздробленность не привела к установлению реальной демократии, а продлила существование режима личной власти А. Акаева, пользовавшегося противоречиями противников и соратников, которые весьма часто переходили из одного лагеря в другой.