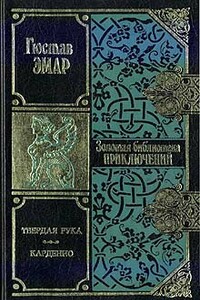— Ходить к нему не надо… Больше не придется, — поправился Кузнецов. — Он отстранен от руководства. — И добавил чуть смущенно: — Только что получен приказ Совета о моем назначении.
— Поздравляю, — искренне обрадовался Госк.
— Как будто не могли найти помоложе, — по-стариковски проворчал Николай Дмитриевич и перевел разговор: — Тимонин уже зачислен к нам. С завтрашнего дня приступает к обязанностям.
— Мне кажется, он от них и не отступал, — улыбнулся Болеслав Людвигович.
— Верно. Во всяком случае, если бы не Яша, вряд ли я бы сейчас с вами беседовал. Да и не только я…
Кузнецов замолчал, вспоминая. Крылась в молчании не только горечь пережитого, но и гордость за человека, которому поверил, которого спрятал у себя, хотя о нем говорили всякое, и который не подвел в трудную, быть может, самую опасную в жизни минуту.
— Хорошие растут ребята, — произнес он наконец.
— Хорошие, — согласился Госк, — но очень горячие!
— Эта горячность от сердца, беда невелика. Плохо будет, когда сердце остынет. Но надо их учить уму-разуму, как-то объединить… Заходил я как-то на фабрику Лузгина, я ведь там прежде работал, слоняются парни и девчата без пользы, сил много, а куда направить — не знают да и не умеют. Есть, правда, у них кружок, да запевалами там детки хозяев и хозяйчиков. Убеждают молодежь, что она должна быть вне политики, а такие разговоры — наивреднейшие! Говорил я об этом с Бирючковым. То же самое, рассказывает, и на фабрике русско-французского анонимного общества. Пришел он туда по старой памяти, а молодежь там спектакли ставит. Может, оно и неплохо, — спектакли, но вопрос какие! Зачем нам, спрашивается, про богов и наивных пастушек, когда вокруг все дыбится, люди на перепутье?! Подумали, может, организовать ребятам помощь в создании ячеек, наподобие наших, большевистских, и готовить их к сознательной борьбе за народное дело? Как считаешь?
— Безусловно надо! Только как?
— Жизнь подскажет. Одно ясно — без молодежи нельзя! Она наша опора и надежда. И очень важно, чтобы парни и девчата почувствовали себя хозяевами жизни, без этого нет борца за будущее. — Николай Дмитриевич на минуту смолк, потом сказал: — Что касается ктитора и его осиного гнезда, то, считаю, им надо заняться всерьез. И прежде всего усилить наблюдение: сдается мне, что девушка — гость не последний.
— А что делать с Сытько? — спросил Госк. — Пора и ему воздать!
— Пора. Что надо, мы узнали, остальное сам расскажет.
Малодушие и колебания прошли.
Теперь у Ферапонта Маякина крепла веру в мужицкую силу. Светло стало на душе председателя после той ночи, когда отогнали они банду, которая во главе с Михаилом Митрюшиным напала на их деревню. И как-то так получилось, что долго потом не расходились мужики по домам. Радостно возбужденные, они горячо обсуждали свою первую победу.
— Как мы их, братва, лихо! Попробуй нас теперь возьми!
— Пусть только сунутся!
— Не поддадимся!
Ферапонт Маякин и Никита Сергеев молча слушали мужиков. Но если Маякин был доволен, то лицо Сергеева становилось все более задумчивым.
— Вот что, мужики, я вам скажу, — произнес наконец Никита, и гомон сразу стих. — А не организовать ли нам в деревне дружину? Объединимся — сам черт будет не страшен.
Мужики поглядывали друг на друга, покашливали, глубоко затягивались самокрутками, щурясь, от едкого дыма, но мнения своего не высказывали.
— Так что, мужики? — повторил Сергеев.
— Оно конечно, можно и дружину, — первым откликнулся Аверьян.
— Тебе, Клепень, все надо. Каждой бочке — затычка, — хохотнул кто-то.
Это обидело Аверьяна, и он закричал, обращаясь ко всем сразу:
— Не мне, а нам теперь все надо, без согласия промеж нас невозможно. Нет у нас, братки, другой борозды… Иначе не только Ванька Трифоновский, любой, самый завалящий мироед сожрет. — Страстная и понятная крестьянам речь произвела впечатление.
Сергеев уловил настроение и предложил:
— Создание дружины — дело серьезное, быть ей или не быть, решать всем. Потому — голосовать.
— Да что там голосовать — и так согласны!
— Нет, товарищи, — настаивал Никита, — каждый должен выразить свое мнение, чтобы потом не было разговоров, что я, мол, не я и лошадь не моя.