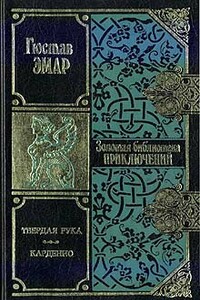— Беснуются, — говорил он, вытирая платком взмокший от пота лоб, — лютуют… Страшный суд реша сотворити…
Карп Данилыч болезненно морщился, а ктитор, шаркая валенками, сообщал самые невероятные вещи. И Митрюшин, разумом сказываясь верить в них, все-таки верил, выпытывая все новые и новые подробности, не замечая ни их надуманности и нелепости, ни очевидной цели, которую преследует Еремей Фокич.
— …и кто б ни молил о милости, нет им пощады.
— И многих, — Карп Данилыч глухо откашлялся, подбирая слова, — многих жизни лишили?
— Несть числа!
— Почему так? Не все стреляли и поджигали! Я, к примеру, даже оружия не имел.
— Отчего же таишься?
— Мало ли что… Сам говоришь.
— Об этом раньше думать следовало. — Ктитор смотрел строго и сожалея. — Учил тебя папаша, светлая ему память, учил, да не впрок, гляжу, наука пошла.
Карп Данилыч промолчал, хотя в другой момент не спустил бы упрека. Он медленно поднял на Еремей глаза, но лишь на мгновение в них мелькнула былая уверенность и твердость. Еремей Фокич подсел к Митрюшину, не зная, как утешить себя и его, не имея даже подходящих слов на такой случай.
— Ведь знал, старый дурак, чуял, что беда стережет! — на одном дыхании выкрикнул Карп Данилыч, крепко схватив ктитора за плечо.
Боль охладила Еремея, и он, высвобождаясь от цепких митрюшинских пальцев, ответил прежним равнодушно-рассудительным тоном:
— Стало быть, наперед умнее будешь…
— Наперед! — со злой досадой перебил Карп Данилыч. — Будет ли это «наперед», вот в чем заноза.
— Сие от бога.
В гнетущей тишине подкрались сумерки. За окном неспешно густела ночь. Она несла с боязливо примолкших улиц тягостное ожидание приближающейся расплаты.
Еремей Фокич, бормоча что-то под нос, собрал ужин, потеребил и без того плотно задернутые занавески, зажег лампу. Так прикрутил фитиль, что робкая ленточка огонька едва держалась за него. Мрак в доме не рассеялся, а лишь отодвинулся, громоздясь в углах чудовищными тенями.
Карп Данилыч безучастно смотрел на боязливую суету ктитора, на нервно дрожащий свет вот-вот готовой погаснуть лампы, все яснее осознавая свое положение. Чужая еда показалась горше полыни. И он вышел из-за стола. Еремей Фокич не остановил.
Обоих волновала одна мысль. Как быть дальше? Но каждый при этом думал только о себе.
Часам к десяти хозяин надумал ложиться спать. Шумно зевал, толкался у печки, исподлобья поглядывая на сгорбившегося на скамейке Митрюшина. Наконец не выдержал, сказал:
— Может, того… где в другом месте схоронишься?
Карп Данилыч, с трудом различая в полумраке фигуру, горько усмехнулся:
— Гонишь, что ли?
— Ты уж не обессудь, сам понять должен.
— Разбойников прятать не боялся, а меня, стало быть…
— Не серчай на старика, Данилыч, однако по нынешним временам ты поопаснее их будешь.
Митрюшин далее не успел обидеться, потому что в окно постучали. Они, не скрывая испуга, переглянулись. Стук, торопливый и настойчивый, повторился. Ктитор, повинуясь жесту Митрюшина, засеменил к двери.
Слышно было, как он дважды спросил «кто?», бесконечно долго возясь с запорами, как коротко и жестко скрипнули дверные петли. «Не мог смазать, старый скупердяй», — подумал Карп Данилыч, обреченно ожидая грохота сапог, бряцанья оружия, мстительно-радостных взглядов.
Но ничего не произошло. Еще минуту стояла тишина, потом дрожащий голос ктитора позвал:
— Данилыч, слышь, что ли? Выдь-ка сюда. Ждут.
«Кто?» — хотел спросить Митрюшин, но вовремя сообразил, что «они» ждать бы не стали.
С трудом сдерживая рвавшееся из груди дыхание, Карп Данилыч прошел в темные сени. У дверей стоял незнакомый человек. Митрюшин в нерешительности остановился.
— Не признали? Сытько я.
— Не признал.
— Бывает… За вами я. Просили кое-что передать. — Он умолк.
Ктитор его понял и, разочарованно потоптавшись около них, робко, словно боясь согласия, предложил:
— Может, в дом?
— Нельзя, — отказался Сытько.
— А-а-а, — облегченно протянул Еремей Фокич. — Ну тогда помогай вам бог, счастливый, как говорится, путь!
Прощай, Еремей Фокич, благодарствуй за приют.
— Да что уж там, Данилыч, люди, чай, свои.
— Вот я и говорю — свои, — подтвердил Митрюшин и вышел из дому.