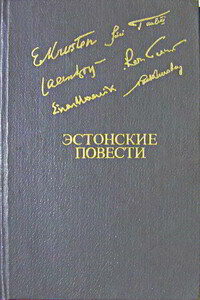— Пан, — зашептала через щель в двери Полинка — Стешина соседка, — отпусти ты нас, смотри, какой ты добрый, играешь как хорошо.
Немец примолк. Полинка зашептала еще ласковее, с жалостью.
— Пан, и ты по дому скучаешь? Жена небось ждет, детишки малые. И нам домой хочется. Горько нам на чужбину идти. Отпусти нас.
Он уселся поудобнее — притих: заснул или задумался?
— Пан, — позвала его Полинка.
— Дрыхнет, — прошептала Стеша. Осторожно нажала на дверь и в открывшуюся щелку просунула руку. Нащупала кол, которым была подперта дверь. В избе затихли.
— Господи! Что ты! Убьют!
Но Стеша открыла дверь. Тихо наклонилась к немцу. Он сидел на ступеньке крыльца, привалившись головой к стойке. Чуть лишь скрипнет что — проснется. Не уйти! Не дыша, она подняла кол и ударила.
Изба опустела мгновенно. Бежали огородами к лесу.
В лесу отдышались, пошли дальше.
— Хватятся — собак спустят — и крышка нам.
— Автомат, дуры, у него не взяли.
Тряслись у Стеши колени и руки. Она поглотала снегу и оглянулась на избы; крыши их темнели под небом.
Полинка взяла ее за руку.
Шли всю ночь, проваливались в снег и воду, хватались за ветви, выбираясь на твердое. Вокруг гулко содрогался воздух, сыпались, раскалываясь, сосульки и льдинки с деревьев. Небо мигало, всплывали вдали красные и зеленые огни ракет и гасли. По краям в трех местах что-то горело коптящим пламенем.
— Как шлепнет сюда снарядом наш же артиллерист — и каюк всем! — сказала Фрося, самая старшая. — И знать не будет, куда тот снаряд определил.
— На баб у них прицел верный, жаль вот, что непостоянный, — сказала Полинка.
— Разговариваете, словно из кино идете, а он, немец, может, под кустом сидит — без всякого прицела стрельнет. Вырастет потом из вас малина, бабоньки.
— И то толк: хоть кто попробует сладкую ягодку.
Сперва, чуть видное, появилось пламя с золотистым блеском, от которого в высоте занялись облака, разгорались из глубины розовым искрящимся светом.
— Зорька ясная, не погуби ты нас светлым днем, — сказала Фрося и, сняв варежку, отерла слезящиеся на ветру глаза.
Оказалось, что шли не туда. Свернули вправо — в березняк. С деревьев капало и брызгало, на почках — матовая морось, а там, где кора была посечена, сочилась влага. Сок вытекал из молодых пней, из обломанных веток. Кора была мокрой — и по ней сбегал сок.
— Деревья уже плачут. Весенний плач: пора такая у них — до зеленого листка, — сказала Стеша.
Жарко ей стало, платок спустила на плечи, змеилась коса по спине, длинная, с черным блеском.
Перед большаком остановились, выглядывая из-за берез чистыми, красивыми от радости глазами.
— Наши!
Кинулись через поле, падали, махали платками.
— Милые! Родимые!
Целовали солдат, смеялись и плакали, прижимаясь к шинелям.
На попутной машине вернулась в свою деревню. Избы были целы: партизаны не дали пожечь. Курился пар на потемневших сырых крышах. Плетней не было: стланью легли на дорогу, на которой увязло много немецких и наших машин.
Деревня без плетней, казалось, поредела, открыты огороды, в межах дотаивал снег.
Вошла Стеша в избу. Неужели дома? Неужели все кончилось?
На печи написано углем:
По полу мокрые следы и цветущая веточка вербы. Подняла ее Стеша, обрызганную весенней капелью, подошла к окну и вдруг увидела на огороде убитого. Выбежала.
— Тимофей!..
Он лежал поперек протаявшей гряды, босой, в закровеневшей на груди мешковине.
1959 г.
Почти на неделю с начала августа зарядили дожди; текло из кадок, стоявших под крышами, сочилось из лесных мочажин и оврагов, где, разрывая корни, сползали пласты земли, подрезанные быстрой водой, и, шипя, тонули в потоке. Залило дорогу, луга с копнами побуревшего сена. Было вокруг мутно, вблизи едва чернели избы да лес, от которого пахло хвоей и перекисшей черникой.
И вдруг потянуло теплом из прояснившейся на западе дали, тучи обтаяли, ярко и широко располоводились между ними просини, и вот в одной из них сверкнул золотой кус солнца. Зажглись капли в гуще деревьев, на репейниках с малиновыми цветами, в смятой траве, забрызганной землей… Над полями замарило прозрачным паром, сквозь него, искажаясь, дрожала зелень прореженных дождем кустов.