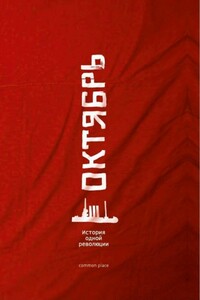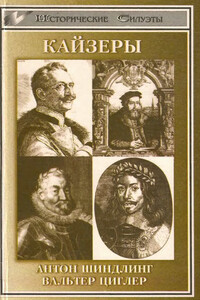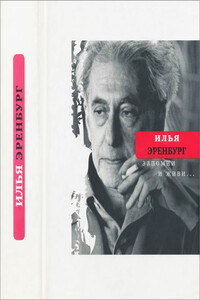– Что это вы играете, мисс? – спросила она. Гувернантка принялась объяснять.
– Сыграйте еще, – властно сказала девочка. Та повиновалась.
Когда она кончила, девочка молчала и, казалось, продолжала слушать.
– Я тоже хочу так играть, – выучите меня, – объявила она наконец. Благодаря своей музыке, гувернантка продержалась у Бергов с год. Сара выучилась бегло болтать по-английски, а старинные баллады она играла и пела с таким неизъяснимым, не детским чувством, что у старой мисс навертывались слезы, слушая ее. Любимцу своему Валдаю Сара все-таки не изменила, и он был невольным виновником ее удаления из родительского дома. У Павла Абрамовича был лакей, хитрый пронырливый парень, франт и наушник, пользовавшийся безграничным доверием барина. Во всем доме не было человека, начиная с хозяйки, которому бы Алексей (так звали лакея) не наделал неприятностей. Сара ненавидела его до такой степени, что из его рук никогда ничего не принимала. Лакей в отместку творил подлости. Однажды он на ее глазах отдавил лапу Валдаю. Несчастный пудель завизжал. Сара расплакалась и подбежала к нему. Несколько дней собака хромала. Девочка нежно за ней ухаживала, перевязывала ей лапу, носила ей сама есть, и вот раз, когда она осторожно, чтобы не разлить тарелки с супом, пробиралась к Валдаю, она увидела в полураскрытую дверь, как Алексей, привязав пуделя к ножке дивана, стегал его по больной ноге арапником. Валдай только выл да беспомощно вскидывался кверху. У Сары потемнело в глазах. Не помня себя, она уронила тарелку, в одно мгновение очутилась в комнате, вырвала у остолбеневшего лакея арапник и принялась им хлестать его по лицу с каким-то исступленным бешенством… Через неделю после этого случая ее отвезли “для перемены характера” в аристократический московский пансион m-me Roger.
Пансион был не лучше и не хуже других подобных заведений, но отличался от них особенной замкнутостью, с которой живая натура девочки никак не могла примириться. Она страстно любила мать, скучала и томилась разлукой с ней и только оживала по воскресеньям, когда та приезжала в пансион. Чуть только она, бывало, завидит подъехавший к крыльцу экипаж, как уже несется со всех ног в приемную, бросается ей на шею, целует ее бледные руки, щеки, прекрасные, черные глаза, жалуется, что “Рожа” их совсем не кормит и на этой неделе ее, Сару, три раза без обеда оставила.
– Пожадничала на свою “бурду”, а я за то два ломтя хлеба с сыром украла, – повествует она о своих подвигах.
Мать укоризненно качает головой, она начинает оправдываться.
– Ах, мама, я и сама знаю, что это нехорошо, но отчего ты не хочешь, чтобы я жила дома; отдала бы меня в гимназию, я бы отлично стала учиться, а тут мне так все противно, не могу ничего делать, только и думаю, как бы кого позлить. Возьми меня домой.
– Нельзя, мой ангел, – отвечала обыкновенно мать на эти приставанья, – ты ведь знаешь, что папа этого не хочет.
Зато на каникулах – какая радость! В Рождественский сочельник m-me Roger устраивала елку, делала всем ученикам подарки: ученицы, в свою очередь, обязаны были выражать ей внимание разными сюрпризами, – и, как она, бывало, злится, если сюрприз оказывался не из дорогих. Занятия оканчивались дня за три до праздника. С самого утра начиналось приготовление пирожков из сладкого теста, которое пансионерки воровали у m-me Roger и, притащив в дортуар[3], съедали сырыми. Но вот, слава Богу, последняя свечка на елке погасла… ученицы начинают разъезжаться по домам. У Сары сердце падает при мысли, что за ней могут приехать не сегодня, а завтра.
Наконец, появляется экономка Амалия Карловна. – On vient te chercher, – говорит m-me Roger Саре, – male il faut tard, veux tu pas allor demain, petite?[4]
У Сары начинает стучать в висках от такой заботливости.
– Oh, madame, il ne m’arrivera rien, bien aur[5], – и, не дожидаясь ответа, убегает; через минуту она, уже совсем одетая, бежит по лестнице, второпях спотыкается и летит с нескольких ступенек. Амалия Карловна ее удерживает, но она успокаивается только в санях. – “Теперь уж не оставят”, – думает она вслух, чуть не бросается на шею кучеру и умоляет его ехать “ради Бога скорее”, – “Еще четыре улицы осталось, еще три, две”, – говорит она Амалии Карловне, довольно хладнокровно разделяющей ее нетерпение.