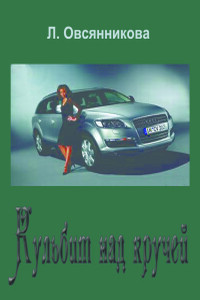— Конечно, это экспромт, но он полностью осуществим, не сомневайтесь, — сказала Низа. — Я не собиралась у вас задерживаться, хотела только выполнить просьбу родителей, увидеть вас, передать от них привет и все. А теперь вижу, что наш разговор будет длинным, — с нежностью глядя в глаза своей троюродной тетке, продолжала Низа. — И замечательным для вас, поверьте. Я просто еще раз с восторгом думаю о своем отце: как вовремя он послал меня сюда! Какая же сила ему дана чувствовать людей, их боли и горести! Какой любовью к ним он наделен! Поверьте, это не моя, а его рука сейчас обнимает вас. Тетушка, дорогая моя, вы не представляете, какие радостные вести я вам привезла, сама того заранее не зная!
Юлия Егоровна успокоилась, пригрелась под боком у Низы и, возможно, впервые за последний год ощутила себя защищенной, кому-то нужной и интересной, впервые с кем-то говорила доверительно и откровенно.
— От тебя пахнет родиной, моим счастливым детством, юностью. Ты такая сильная, и мне кажется, рядом с тобой у меня все будет хорошо, — будто ручеек, журчал ее голос, а Низа думала, с чего начать свой рассказ, чтобы у старушки не случился еще один стресс, пусть хоть и счастливый.
— Так все и будет, так и будет, — обещала гостья. — Расскажите мне о себе, — попросила она, чтобы старушка вылила тоску, облегчила душу и успокоилась насколько возможно в ее положении. — Давайте много говорить о дорогом и радостном для нас.
Прыткие минуты подхватывали слова рассказа тетки Юлии и, будто воры, прочь убегали с ними куда-то, чтобы не возвратиться сюда уже никогда, торопливой походкой отходили назад отягощенные добычей перемен часы, давно посерел день и тоже превратился в воспоминание, а они не размыкали рук и говорили, говорили, говорили. Низа много рассказывала о маме, об отце и о его воспоминаниях, записанных школьниками и изданных отдельной книгой, где есть и о ней, молодой Юле Мазур. Дескать, из-за этого у отца начался сложный период, наполненный радостями и печалями, ведь теперь он будет казниться, что сделал достоянием гласности тайну Юлии Егоровны и после этого она может неуютно чувствовать себя в Дивгороде.
Та всплеснула руками:
— Ба! Это ты намекаешь на то, что я родила сына от чужого человека? — спросила Юлия Егоровна, прослушав прочитанный Низой вслух рассказ о черных розах.
— Так, ведь об этом теперь все знают...
— Во-первых, в книге сказано, что я выслушала совет твоего отца и сказала, что мы уедем из Дивгорода. И все. Там же нет о том, что на самом деле произошло дальше. А во-вторых, у меня был такой любимый мужчина и такой сын, что мне ничье осуждение не страшно, и моя правда мне не повредит. А за твоего отца я постоянно молилась, Бога просила послать ему долгих лет жизни. Ведь это он подвел меня к большому счастью. Без него не было бы у меня Максима и всего того, что я нынче имею...
— Конечно, — поддакивала ей Низа, отметив то, что Юля называет сына не тем именем, которое было записано в паспорте, а тем, которым называл его родной отец.
— После смерти Ивана Моисеевича всему белому свету стало безразлично, от кого я родила своего мальчика, за исключением его родного отца, конечно. Золотой был человек, он заботился обо мне до своей последней минуты, он заполнил мою жизнь вниманием и благосостоянием, с ним я была счастлива вполне. И меня ничье мнение по этому поводу вообще не интересовало. Многие знали правду, но не в моем окружении, а среди товарищей сына. И ничего, никто не бросил камень в мой огород.
Юля все еще не сказала, кто был ее «солнечным лучом», а кто — сыном, а Низа не проявляла любопытства, не показывала, что обо всем знает сама, и просто слушал рассказ, пока обеим не захотелось спать.
Тетка Юлия постлала гостье на диване в кабинете сына, и утром Низа, проснувшись первой, долго рассматривала книги и фотографии из многочисленных альбомов Максима, ожидая, когда встанет хозяйка. А та, наоборот, долго спала, словно вчера искупалась в любистке. Юле снилось светлое девичество, молодые отец и мама, затем примерещились Виктор с Людочкой и оба звали в один голос: «Приезжай к нам, проведай наш приют!». И она обильно плакала во сне то ли счастливыми, то ли горькими слезами, но были те слезы очищающими душу, легкими, как в детстве. Кажется, она что-то отвечала своим дорогим двойняшкам. А потом на каком-то перроне долго прощалась с Максимом, навеки-вечные прощалась и кричала ему вслед: «Не сердись на меня! Не осуди!». Так кричала, что испугала Низу. Проснулась от того, что Низа, присев на кровать, тихо гладила ее плечо через одеяло.