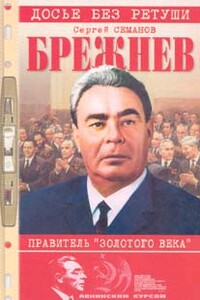Алексей Прасолов, наконец, в 1964 году уже на свободе, и уже растут стихи в нем, какие-то невиданные, свободные. Как в русской народной сказке: а дальше до самой смерти жили дружно, детей растили и умерли в один день... А какие бы стихи увидел мир?
Не случилось. Ни детей, ни стихов, ни общей жизни.
Нет, лучше б ни теперь, ни впредь
В безрадостную пору
Так близко, близко не смотреть
В твой зрак, ночная прорубь.
Холодный, черный, неживой...
Я знал глаза такие:
Они глядят, но ни одной
Звезды в них ночь не кинет.
Но вот губами я приник
Из проруби напиться —
И чую, чую, как родник
Ко мне со дна стремится.
И задышало в глубине,
И влажно губ коснулось,
И ты, уснувшая во мне,
От холода проснулась.
Насколько я понимаю всё происшедшее, бесстрашная Инна, идущая на квартиру к Твардовскому, поселившая вышедшего на свободу поэта у своей мамы, по-прежнему влюблённая в его стихи, испугалась его самого, которого и видала-то несколько раз в жизни. Испугалась черноты тюремных полос, испугалась загульных срывов, которые были для неё пострашнее разговоров с начальством. Испугалась, по-видимому, и возможного конца своей карьеры московского литературоведа. Оказалось, что в письмах жертвовать собой было легче.
В этом доме опустелом
Лишь подобье тишины.
Тень, оставленная телом,
Бродит зыбко вдоль стены
Но обращаюсь к ниспровергателям Инны Ростовцевой: уймитесь, она сама себя наказала больше всех. Поэтому и решилась на такую отчаянную публикацию.
Эта книга — “Я встретил ночь твою”, — хоть и связана неразрывно с Ростовцевой, но более всего она говорит о поэте, и каком поэте!
Во-первых, это одна из немногих книг, где поэт так подробно и предельно искренне говорит о своей поэзии, своем подходе к поэзии. “Напишешь утром — кажется, здорово, в обед строки режут душу, как осколки стекла, отложишь на несколько дней — и только тогда взгляд устоится, и видишь, что есть на самом деле...”. Пожалуй, в каждом из писем (а их сотни, практически каждую неделю по письму) — смесь литературоведческих раздумий, философских сомнений и любовных признаний. Мы не найдем в них подробностей тюремной судьбы. Об этом ни слова, лишь догадаться можно о каких-то мероприятиях. Нет в письмах и личного нытья на судьбу, на безрадостную жизнь, нет пессимистических или чисто тюремно-сентиментальных признаний. Это диалог поэта-философа с умным знатоком литературы.
Сначала этого Прасолову хватало вполне, посылались черновики стихов, сам признавался: “Будь моей суровой копилкой. Всё буду отсылать тебе”. Так двигался из тюрьмы к Инне Ростовцевой письменный конвейер. Но за признаниями души с неизбежностью нарастало и стремление к близости человеческой.
При этом долгое время почти никакой любовной лирики. Явное соучастие в нарастании творческой энергии поэта было налицо, он знал, что любой его стих — о тракторе или об Анхеле Алонсо, о кирпиче или о каменоломне — найдет внимательного и профессионального читателя.
Во-вторых, эта редкая книга о том, как делаются стихи. Перед нами нараспашку мастерская поэта.
Нет, пусть говорят оппоненты, что хотят: помогла стать большим поэтом Алексею Прасолову, себе и ему на беду, именно критик и литературовед Инна Ростовцева. И какие бы стихи ни писались в письмах, они писались ей, как соучастнице единого творческого процесса: поэт — читателю… И лишь изредка каким-то намеком, тенью проходила и тема возникшей любви... Вот прошел 1962 год, прошел 1963-й, стихи пишутся обо всем: о космосе, о времени, о восстановлении истины, о пути человеческой души, о политике, и почти ничего не было о женщине.
Видно, поэт боялся этой темы еще и потому, что боялся напороться на неприятие, боялся потерять собеседника и сотворца. Он пишет уже возлюбленной своей: “Бойся выдуманного Алексея, разгляди того, что есть. Это трудно в таких условиях. Но не так уж невозможно...”.
Он не то что проверял её, он сам дорастал до неё как литературоведа, давая и ей дорасти до него как до поэта. Он искал в ней понимания во всём: в египетской истории (“Была царицею в Египте...”), в своих стихах о войне ли, о современной политике, о смерти Иосифа Сталина, к примеру... Он и в этом хотел слить их души в нечто единое.