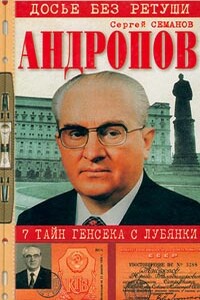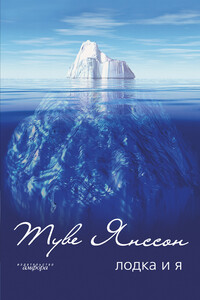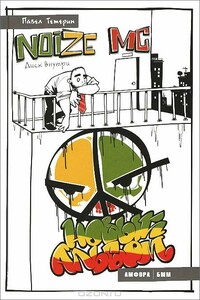“Часто я вспоминаю свою Родину — Курский песенный край. Россия была богата песней, Курские края — особенно. До пятидесятых годов (как я знаю) хранились в памяти народных певиц и певцов, передаваемые изустно, из поколения в поколение, дивные старинные напевы. Как они прекрасны, как они оригинальны, какая радость — слушать их. Один из музыкальных ладов, на котором построена моя кантата “Курские песни”, говорит о глубокой древности своего происхождения. Этому ладу, я думаю, сотни лет. Теперь уже так не поют. Жизнь — неумолима! Радио и особенно телевидение вытесняют эту музыку. Будет жаль, если она совсем исчезнет”.
Теперь уже так не поют... Заметим, слово, означающее отчий край, а не всю страну, композитор пишет с большой буквы — Родина, не пресловутая “малая”, но именно великая — песнью своей, языком — то есть и народом своим. Горечь курского уроженца — от того, что вымирает и “вытесняется” не просто старинный распев, но — глубинно русский люд, способный рождать такое искусство...
...Мудрено ли, что автор этих заметок, подобно, уверен, большинству читателей “Разных записей”, буквально “загорелся” надеждой на выход полновесной, фундаментальной книги свиридовского дневниково-мемуарного наследия. Такой книги, в которой лишь слегка приоткрывшийся, но уже ошеломивший нас глубинно-потаённый мир гения распахнулся бы нам во всей полноте.
2
И вот теперь она перед нами, эта книга — “Музыка как судьба”.
Не менее половины этого весомого (более 700 страниц) тома отданы суждениям о музыке, размышлениям над судьбами её творцов и тружеников в России и в мире... И — тем не менее: уже в середине 70-х годов Г. В. Свиридов делает дневниковую краткую запись, которая является одной из самых ключевых для понимания как всего его литературного наследия, так и его миросознания в целом. Он пишет:
“Н а д о б н о понимать музыку как составную часть общей духовной жизни нации, а не как обособленное ремесло”.
(Курсив мой. —
С. З.
)
Музыка и в жизни самого Свиридова не являлась “обособленным ремеслом”. Чуть позже в той же самой своей дневниковой тетради он создаёт, можно сказать без преувеличения, совершенную “формулу вариантов” того, какое место может занимать музыка в жизни отдельного человека. Это тоже лаконичная, в четыре кратких строки, “столбцом”, как стихи, сделанная запись. Первые три варианта: “Музыка как забава. Музыка как профессия. Музыка как искусство”. Приемлемо либо заслуживает уважения и даже восхищения — но без всего этого так или иначе можно прожить. А вот последнее — то, без чего даже и дышать невозможно — “М у з ы к а к а к с у д ь б а”. Это, как мы можем видеть сегодня — сущность жизни самого Свиридова.
Мы можем явственно различить несколько фундаментальных начал, на которых зиждется система мировосприятия, заповеданная нам в этой книге, увидеть, если хотите, несколько краеугольных камней — либо опорных столпов, держащих собою здание мыслей, воззрений и чувств Георгия Свиридова. Не случайно два из этих ключевых постулатов вынесены на обложку книги — они вводят читателя в её мир, служа камертоном в её метельной, мятежной, пламенной стихии. В гражданственной патриотике крупнейшего художника русской музыки советских лет...
“Водораздел, размежевание художественных течений происходит в наши дни совсем не по линии “манеры” или так называемых “средств выражения”. Надо быть очень наивным человеком, чтобы так думать. Размежевание идёт по самой главной, основной линии человеческого бытия — по линии духовно-нравственной. Здесь — начало всего — смысла жизни!”
...Не усвоив смысла этого выстраданного свиридовского убеждения, читателю трудно будет понять, либо, по крайней мере, не всегда будет ясно, почему, скажем, композитор множество раз яростно обрушивается в своих записях на так называемую “литературную придворную оппозицию” брежневских лет, — вроде бы лично ему она ничего плохого не сделала, а он нарёк Евтушенко “литературным сексотом” и “провокатором”, хотя тот был обожаем Шостаковичем — учителем, наставником Свиридова в музыкальном искусстве; Вознесенскому же вообще даёт клеймо “сознательно грязного” поэта... Не вникнув в суть краеугольных и опорных суждений автора, касающихся именно “духовно-нравственной линии” как главного водораздела меж противоположными станами в культуре и обществе, вряд ли ощутит читатель и всю глубину того неприятия, которое неоднократно звучит в книге по отношению к опере Шостаковича “Катерина Измайлова”, поднятой на щит тою же “придворной оппозицией”, и глубину той горькой иронии, с которой автор “Отчалившей Руси” уже в конце жизни говорит о своём былом старшем товарище по композиторскому перу (хотя и восторженных строк о нём в книге тоже немало, ибо Георгий Васильевич, как мало кто, умел быть благодарным): “В 60-е годы Шостакович был музыкальным аналогом так называемой эстрадной поэзии (Евтушенко и Вознесенский)...”.