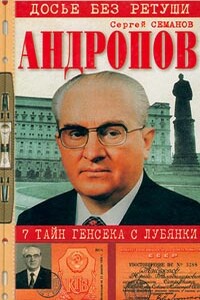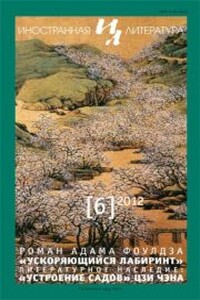Вспоминал о травле музыки Римского-Корсакова в стенах консерватории в то время. (Леман рассказывал, что тогда даже руки не подавали тем студентам, кто пытался сочинять в традиционном национальном духе.)
Заметил, что народ в большинстве своем не любил песен Л. Утесова. “Ну, загнусил”, — говорили, когда включался репродуктор с его характерным голоском.
Говорил об Б. Асафьеве как о гениальном человеке (о его книге “Музыкальная форма как процесс”).
Восхищался Чайковским: “Нравится ли вам “Щелкунчик”? Это потрясающее произведение”. “Чайковский составил свое духовное завещание (симфонию. —
А. В.
) и покончил с собой”.
“Это удивительная, какая-то дивная и чистая, незамутненная музыка”, — восхищался он первым скрипичным концертом Сергея Прокофьева. Также его романсами на стихи А. Ахматовой, казавшиеся ему близкими собственному творчеству. Иногда он, правда, критиковал Прокофьева за его некоторую житейскую наивность и неразборчивость, всеядность в выборе тем для творчества, упрекал его в нелюбви к творчеству Римского-Корсакова.
“Какая чудесная мелодия” — о песне А. Варламова “Красный сарафан”.
“Почему японцы так любят песню Френкеля “Журавли”? Потому что она соответствует их религиозным представлениям о переселении человеческой души в душу птицы”. (Почти “Отчалившая Русь”.)
Восторгался работами С. Т. Конёнкова, его концепцией “человека — дерева”. Говорил, что он оказал воздействие на создание кантаты “Деревянная Русь”.
“Совершенно не переношу фальшивой музыки”, — признался он как-то. Да, его слух был поразительно чист и светел. До сих пор его музыка ассоциируется у меня с белым цветом и яркими потоками световой энергии, каких я не встречал ни у одного из композиторов.
Когда он был в хорошем настроении, то начинал называть меня на английский манер “сэр Энтони” или придумывал другие всякие прозвища, образованные от моей фамилии, обращаясь ко мне то как к пану Висковичу, то как к синьору Антонио Вискоттини. (Последнее его изобретение я взял в качестве псевдонима, который иногда использую в своих сочинениях.)
Во время бесед часто спрашивал, не надоел ли он мне. “Пока терплю”, —отвечал я обычно, а он смеялся. Когда я как-то признался ему, что “живу вашей музыкой”, он ответил: “Зря, она вам быстро надоест”. Пока не надоела.
Поучал: “Не давайте в своем присутствии о ком-нибудь говорить плохо. Вас могут обвинить в согласии с говорившим”. (Отголосок его жизни в условиях сталинского режима, хотя это и сейчас звучит актуально.)
Вспоминаются его многочисленные меткие замечания, тонкие шутки, которыми он пересыпал свой диалог с собеседником. “Иван Грозный — первый, кто взял на государственное довольствие композиторов. Большой был чудак!” Или: “Екатерина Великая была женщина умная. Знала, что строить для русского народа — тюрьмы”. Или: “Какими смешными кажутся, наверное, музыканты людям производственных специальностей, кто создает необходимые вещи: хлеб, сталь! Сидят музыканты, пилят смычками, что-то переживают, качаются!” Сам он был твердо уверен в высокой облагораживающей душу роли музыки.
Его окружал достаточно тесный круг преданных ему людей, о которых он всегда отзывался с сердечной теплотой. “Наш дорогой, милый Золотов”. “Леденев — истинно глубоко христиански относящийся к другим человек”. “Тактакишвили — всегда был моим лучшим другом”. “Обязательно дружите с Вульфовым”. (Я и дружу.) “Иван Сергеевич Вишневский — настоящий почвенный композитор. Чувствуются его дворянские корни”.
Высоко он ставил и ценил Никиту Михалкова: “Вы знаете, Никита — очень славный парень (Свиридов мог себе позволить так сказать) и чрезвычайно честный в искусстве и жизни человек”.
Часто я слышал от него выражение гордости творчеством музыкантов, близких ему по духу. Он искренне радовался широкому международному резонансу деятельности Владимира Ивановича Федосеева: “Пусть весь мир восхищается русским искусством, приобщается к нему, Федосеев сейчас — первый национальный дирижер!”
Грандиозный международный успех великолепного дуэта Дмитрия Хворостовского и Михаила Аркадьева, столь много сделавших для распространения свиридовской музыки за рубежом, всегда вызывал в нем самые горячие чувства. “Был на концерте Миши Аркадьева — у него рояль звучит как целый колокольный оркестр, вроде бы как в моей “Торжественной музыке” из Партиты”.