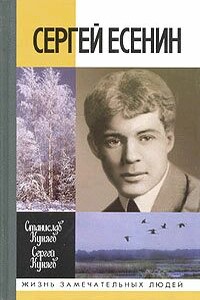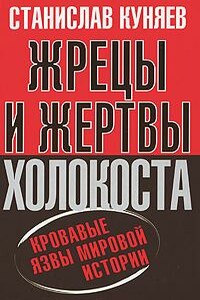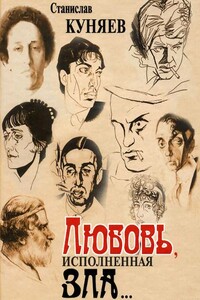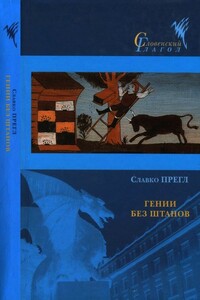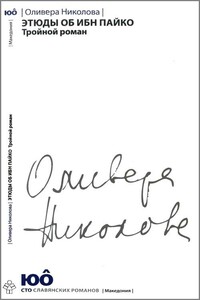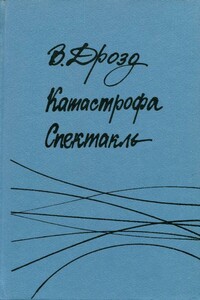Еще в 1971 г. (цит. по своему дневнику) он сказал мне: “Сейчас начинается кампания против славянофилов, но это будет недолго. Защите это не помешает, публикации — да. Если волна докатится до Краснодара, тебе будет трудно”. И как в воду глядел. Но случилось даже более страшное.
15 февраля 1972 года Кожинов написал официальный отзыв об одной моей статье о славянофильстве (о другой написал доктор философских наук А. А. Галактионов, у которого в ЛГУ на кафедре истории русской философии я должен был защищаться):
О работе В. П. Попова
“Раннее славянофильство как эстетический феномен”
Наследие славянофилов в последние годы привлекло самое широкое, активное внимание наших историков, философов, литературоведов. Это объясняется как зрелостью нашей теоретико-исторической мысли, ставящей перед собой задачу изучить все сложные пути и перепутья в развитии общественного сознания в России, так и несомненной актуальностью тех проблем, которые стояли в центре внимания ранних славянофилов, и прежде всего проблемы национальной культуры в ее соотношении с культурой общечеловеческой.
Работа В. П. Попова входит в круг многочисленных работ о ранних славянофилах, появившихся в последнее время, и, более того, принадлежит, на мой взгляд, к лучшим из этих работ.
Во-первых, она основана на исчерпывающем знании материала (автор привлек даже архивные источники) и литературы вопроса, чего нельзя, к сожалению, сказать про многие статьи о славянофильстве, базирующиеся на поверхностном знакомстве с отдельными — и даже не всегда центральными — произведениями ранних славянофилов.
Во-вторых — и это еще более существенно, — В. П. Попов последовательно стремится к строго объективному анализу и оценке наследия славянофилов. Это нельзя не отметить потому, что: целый ряд новейших работ очевидно грешит модернизацией славянофильства и прагматической экстраполяцией его идей в русло сегодняшних теоретических споров (работы этого толка вызвали у нас законную критику).
В. П. Попов последовательно рассматривает концепции славянофилов не на основе того, как они сами “думали о себе”,, а на основе соотношения их мысли с общественным бытием. Это ярко выразилось, в частности, в рассуждении о том, что для истинного понимания творчества Гоголя славянофилам пришлось бы “объяснить себе самих себя и свое учение” (cmp. 5). А это им “было не под силу” (там же).
Исходя из этого, я с полной убежденностью и даже с удовольствием рекомендую работу В. П. Попова к печати.
Зав. группой по изучению стиля,
старший научный сотрудник
Института мировой литературы АН СССР
В. В. Кожинов
А уже 15 ноября этого же года появилась статья зав. отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС и будущего “архитектора перестройки” А. Н. Яковлева “Против антиисторизма”, которая обрушила на возрождение русского национального сознания, на славянофильство и почвенничество (учение Достоевского) и современных идеологов русской идеи, как их называли, “неославянофилов”, в том числе и на самого Кожинова, всю силу официальной, “интернационалистической” партийной русофобии. Задержало это и мою защиту, а главное, переориентировало её. После этого страшного идеологического удара (нет худа без добра) я вернулся на стезя свои — написал другую диссертацию — уже по истории русской литературы: “Учение ранних славянофилов и творчество Ф. М. Достоевского”, которую защитил в 1979 году в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена. Вадим Валерианович Кожинов еще в 1977 году на защите диссертации Ю. Селезнева познакомил меня с тогдашним завкафедрой литературы этого института (ныне он директор ИРЛИ РАН) Н. Н. Скатовым, но сам не смог стать моим оппонентом (“я как оппонент могу тебе помешать”) и порекомендовал обратиться к Г. М. Фридлендеру, который и стал моим первым оппонентом.
В 1999 году Кожинов сказал в одном интервью: “Я не принадлежу ни к какому направлению... это видно из моих книг — я не славянофил. Не могу сказать, что я русофил”. Это так, во многих своих последних книгах он это подтвердил. Но это совсем не значит, что Кожинов отказался от славянофильства или “предал” его. В нем, по выражению И. Шафаревича, навсегда остался “дух славянофилов”. Он, на мой взгляд, отрицал свое славянофильство в последние годы потому, что многие проходимцы стали называть себя русофилами, создавать “совершенно искусственные поделки “а-ла рюс”, а главное, он отказывался от “общей”, “ходячей” тенденции славянофильства, хотел выйти за пределы этого учения, ибо вошел в русло самой великой русской литературы, которая сформировалась как результат спора западников и славянофилов и оказалась “заведомо шире и глубже самих этих тенденций”, как он сам сказал о “подлинно значительных писателях и мыслителях”, так или иначе принадлежавших к западничеству или славянофильству. В этом смысле он ближе всего к Достоевскому — почвеннику, который “выдумал” примирить западников и славянофилов. Но ведь при этом тот же Достоевский говорил: “Я во многом убеждений чисто славянофильских”. Кожинов такого уточнения не делал, больше того, даже отрицал славянофильство самого Достоевского, но я убежден, что он мог повторить эти слова великого писателя. Но он чаще называл себя евразийцем.