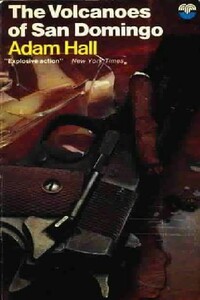Народ все знает лучше, терпит и знает пути, а интеллигенция прет напролом.
Ланочка, таким образом, осталась куковать еще на полтора часа, в наказание за неверие в смекалку местных.
Она не представляла, что еще ее ожидает — так она потом рассказывала по телефону подружке Стручку, тоже безработной художнице, ветерану комбината, которая имела кличку «Танцуют все», поскольку мастерски рисовала групповые пляски народов СССР и танцы животных — особенно медведей.
Стручок была уже бабушкой со стажем, старший сын у нее выучился на адвоката и защищал бедных, а она все еще занималась танцами по системе Айседоры Дункан, разработанной в конце двадцатых годов знаменитой Алексеевой, где в этой студии до недавних пор танцевала босиком, в тунике, и Ланочка. Благодаря чему сохранившая подвижность, стройность и стремление принимать античные позы. (Древнегреческие туники в студии изображали отбеленные в каустической соде простыни, а под ними студийки носили треники.)
В другой системе координат носатенькая Стручок была родом из князей и время от времени заседала в недавно созданном дворянском собрании, а там проводил время и еще один человек из худкомбината, про которого по комбинату шла молва, что он Романов по прапрапрадеду, а прапрапрабабушка была дворцовая горничная.
Судя по его лицу, она была уборщица, так считали коллеги по комбинату. Ну да император Павел имел такую же внешность.
Прозвище у него было Потомок, и он отличался общественным темпераментом и все время подписывал обращения.
Подпись у Потомка была «Н. Романов», точная копия царской (художники все умеют), а звали его действительно на букву «Н», но Никита. Оба эти человека нам не по сюжету, но это были друзья Ланы и Графа.
43. ХХ век. Ланочка и Граф
А Ланочку ожидал долгий путь на автобусе, двухчасовое сидение за тарелкой щей и древней, чрезвычайно жилистой куриной ножкой с темными макаронами в ресторане города Меленки, в ожидании автобуса на Ляхи, а оттуда автобуса до Паново, затем путь по лесам и полям от Панова до Дубцов, переход через речку Черничку босиком и закатав брюки — и прямая дорога вверх на деревню.
Судя по глубоким вмятинам на обоих бережках Чернички, тут недавно лежало бревно, но его унесли. В России ничто полезное не должно просто так валяться.
И тут сердце художника забилось — окрестные холмы в тумане, силуэты сосен, чистый Хокусаи!
Брать акварель и плакать.
Но плакать не пришлось, не тот человек была Ланочка, однако же вскоре захотелось, причем по другому поводу.
Избу Графа найти оказалось легко, первая же Ланочкина ровесница, стоящая на улице в ряду других деревенских бабок, показала его дом.
— Ждем стадо, — объяснила она, упирая на букву «о», — я бы вас отвела, а отойти нельзя, кривой Лёнька-пастух опять нажрался и где-нито спит, а стадо-то идет!
Лана, дойдя до места, увидела справную избу, крашенную в голубой цвет, увидела немытые, тусклые окна в красивых наличниках, крылечко и дверь.
Ну ничего, сказала себе Ланочка, сойдет. Окошки помоем.
Она вошла в сени, рванула на себя дверь, обитую рваной холстиной, все чин-чинарем, и вступила под небеса.
Крыши не было.
То есть еще имелись кое-какие стропила.
Остатки крыши декорировали избу, но только со стороны улицы.
В уголку, под каким-то оставшимся карнизом, сидел на кривой табуретке Граф.
Он опирался на единственный костыль.
Рядом находилась облезлая печка, бывшая белая, и лежало два куска фанеры, видимо, на растопку.
За печкой находилось лежбище, про которое и говорить нам неудобно.
Пол был мокрый и грязный — недавно прошел дождь.
Граф сидел ровно такой же мокрый и грязный, заросший большой седой бородой. И очень худенький.
— А, Ланка, приехала, — сказал он, закашлявшись.
Поздоровались, поцеловались в щечку.
Ланочка смахнула слезу.
На полке, криво прибитой к стене, лежало пропитание: две вареные прошлогодние картофелины, соленый огурец и половина буханки, уже ощипанная.
Явно дары крестьянок.
И стояла старая жестяная банка с поднятой кривой крышкой из-под зеленого горошка венгерского производства — видимо, для питья.
Граф гордо и независимо смотрел на Ланочку, но щеки у него были мокрые.