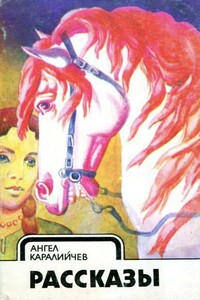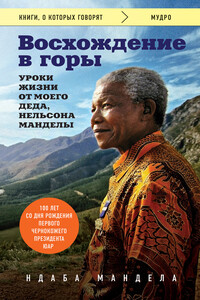В первую ночь заключенный не знал, что делать с руками, закованными в кандалы. Вытянул их вперед — они тут же затекли. Положил на грудь, тяжело, невозможно дышать. Попробовал отвести их вправо или влево — боль в кистях становилась нестерпимой. Он встал, склонился над раскрытой немецкой историей, которую ему принесли из тюремной библиотеки, и попытался читать без очков. Буквы запрыгали перед глазами и исчезли в сером тумане. Ясно: глаза ослабли, сказалась многолетняя напряженная работа над книгами. После полуночи он задремал. Утром ему показалось, что у него отнялись руки. Тогда он встал с кровати и начал раскачивать их как маятник. Кандалы оглашали камеру зловещим звоном. Гимнастика ободрила его.
— Я протестую! — заявил он на очередном допросе свирепому Фогту. — Почему меня заковали? Немецкие законы предусматривают кандалы лишь для тех, кто поднимает руку на тюремщиков, кто предпринимает попытку к бегству или к самоубийству. Я не отношусь к этой категории! Снимите с меня кандалы!
— Я ничего не могу сделать для вас, — холодно ответил судебный следователь. — Вы поджигатель рейхстага!
Однако Димитров был несломимым, сильным человеком. Он знал, что находится в руках свирепого классового врага, и решил быть твердым, как сталь. До конца!
Когда через несколько дней ему принесли его авторучку, очки и любимую трубку, он обрадовался как ребенок. Взял ручку, раскрыл дневник, который он начал еще в день ареста, и сел писать. Как отяжелело золотое перо! Ржавые кольца цепей царапают бумагу. Первым делом он нарисовал физический и моральный портрет следователя — национал-социалиста.
«Фогт — невысокого роста, иезуит. Способен вести лишь мелкие уголовные дела. До исторического процесса, проходящего на глазах у мировой общественности, он еще не дорос. Мелочный идиот. Если бы он был умнее, то уже после первых же наших столкновений он бы всячески стремился не предавать меня суду».
Пошли допросы. Фогт каждый день «находил» все новых и новых «свидетелей» — каких-то подозрительных типов из берлинских вертепов, из катакомб гестапо и из редакций газет. Эти «свидетели» оглядывали заключенного с ног до головы и многозначительно качали головой: «Разумеется он. Тот самый. Мы его видели много раз с голландцем ван дер Люббе. Они были неразлучны».
Димитров с отвращением потряс кандалами перед носом следователя.
— На что это похоже? Разве я медведь? Зачем вы показываете меня этим субъектам, которые никогда в жизни не видели меня и которых я никогда не встречал?
Но Фогт был упрямым человеком, он ревностно исполнял свои «обязанности». Он придумывал все новые и новые пытки и моральные испытания для своей жертвы, предугадывал каждое желание своих хозяев — заправил третьего рейха.
«Я похож на птицу в клетке, — думал Димитров. — Крылья есть, а на свободу, где назревают большие исторические события, вылететь не могу. Гитлер пытается повернуть колесо истории вспять. Земля горит под ногами капиталистов, а я сижу за тремя замками и должен молчать».
Из Моабита в мюнхенскую тюрьму Димитрова перевезли на черной машине. Одних оков полицейским показалось мало, поэтому они привязали его ноги к скамейке. В новой тюрьме берлинские тюремщики сняли с Димитрова оковы и увезли их с собой. Директор мюнхенской тюрьмы оказался в очень затруднительном положении: где взять оковы, ведь в мюнхенской тюрьме они давно упразднены. А в сопроводительном письме ясно указано: «Димитрова содержать при строгом режиме. Заковать ему руки». Не смея перечить своим берлинским хозяевам, директор приказал связать узника обыкновенной цепью. Ржавые железные путы были очень тяжелыми, они в кровь изранили руки и ноги Димитрова, лишили его последних сил. Боль стала нестерпимой. О «человеке в цепях» узнала вся Бавария, и к нему в камеру то и дело «наведывались» разные высокопоставленные нацисты. По возвращении Димитрова в Моабитскую тюрьму его снова заковали в прежние кандалы. Фогт был убежден, что с помощью насилия и средневековых пыток ему удастся сломить Димитрова, погасить пламя в его душе. Но он не знал, с кем имеет дело.