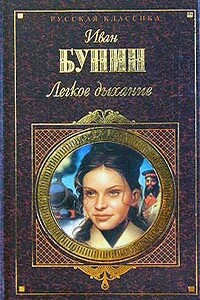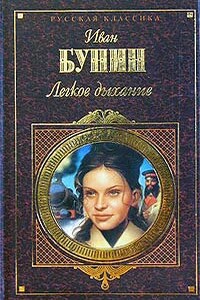Опять тоже на перегородке, которая отделяет хозяйское логовище от общей избы, какие-то пестрые да уродливые картинки нарисованы. Просто глаз девать некуда, — потому убожество всякое прямо в глаза тебе льнет, и как это дурковато да несообразно представлены (хоть и в лицах представлены!) генералы нашинские на картинках тех. Без всякого вреда скачут будто они по штыкам ненашинской пехоты, одной рукой будто они с той бестии пехоты головы рубят, другой усы гладят — и такие длинные да курчавые усы эти, каких у настоящих-то людей никогда и не бывает. И черт тоже на особенной картине нарисован: рожа у него куриной представлена, туловище человечье, ноги с копытами конскими, а сам он с хвостом и рогами, и весь-то он унизан тыквами да картофелем. Старец к нему некий святой навстречу идет, пальцем ему грозит издали, и из уст того старца исходят слова такие: «Почто ты, говорит, враже, божиим даром забавляешься? Зачем, спрашивает, тело свое дьявольское тыквами да картофелем унизал? Разве, говорит, не знаешь, что я тебя за это проклясть могу и в тартарары засажу?» И от врага тоже такая речь к старцу проведена: «Ай не знаешь ты, старче божий, что у меня, сатаны, дело такое есть — людей с толку сбивать? Нужно, говорит, мне, сатане, мужиков прельстить, чтобы они ни тыквы, ни картофелю в рот не брали, чтобы они наказов окружного тот картофель и тыкву сеять и есть не слушались. А там, говорит, послали меня из ада произвесть во всех царствах плач и стенанье большие, потому начальники за то, что их наказов не слушают, на мужиков озлобятся и будут их картофелем тем насильно кормить и плетями трехвостными сечь; а мужики тоже поганым, идольским плодом брезгаючи, на начальников встанут — и будет от того шум и смятенье большие — моему дьявольскому сердцу потеха и послуга не малая…» Не стал с ним ничего больше разговаривать старец божий, а только проклял его, засадил в кувшин и в том кувшине зарыл его на тысячу аршин вглубь земли, где он сидеть будет семь тысяч годов, когда будет пришествие антихристово. С тех самых пор мужики без всякого сомнения картошку и тыкву есть стали, — стали есть и похваливать, какой-де такой скусный да сытный плод господь бог им послал; а прежде того, на моих еще памятях, у нас по степям картошку и тыкву чертовым яблоком обзывали.
Как будто орехи грызет, с треском таким стучит маятник словно напоказ размалеванных часов, а Липатка стоит себе в избе, ошалелый словно, и отпирать двери нейдет, ровно к стуку часовому прислушивается, как это часто случается с ним, когда он удумывать начнет, как бы это ему исхитриться да душу свою многогрешную от вечной погибели спасти…
И чего он на картинку одну, которая, зауряд с другими, на перегородке приклеена была, так пристально смотрит? Ай впервой увидал ты ее, Липат Семеныч? Годика три, чай, она уж живет у тебя, — дымом да пылью, видишь, как ее прокоптило: насилу и разберешь ведь, как на ней изображена корчма жидовская, в одиночке от селения поставленная. Спит в этой одинокой корчме офицер какой-то проезжий, — чемодан вон его в углу стоит, толстый такой, шкатулка на столе большая такая — и, может быть, снится тому офицеру, как радостно примут его в родной семье, давно уже не виданной им, — мать, может, снится ему, ласки красавиц сестер, — и не слышит он, как крадется к нему потихоньку в темноте ночной жид-убийца с топором в руках своих разбойнических…
Смотрючи, вздрогнул Липатка, словно ему кто-нибудь сзади в самое ухо гагакнул нечаянно. Испугался, должно быть, того, что в ставню оконную с улицы сильной рукой застучали.
— Отпирай, Липат! Ай гостям не рад? — слышно было, как на улице засмеялись после этого, — чудно, надо быть, показалось, что слово такое складное, не думавши, вышло.
— Господи! — потихоньку шепчет Липатка и крестится.
И так странно он душой смутился в это время, что двери сенные чрез великую силу мог отпереть, — руки у него, как в лихорадке, тряслись, и в очах туман расстилался.
Входит владимирец в избу, образам святым молится, хозяину с хозяйкой низкий поклон отдает; а жена для голубчика самовар в пять минут удружила. Шипит самовар на столе, брызгами своими кипучими во все стороны бьет, а владимирец, как и подобает, Липатке рассказывает, как по дороге снега почитай все уж стаяли, как кое-где зелени показались такие прекрасные (господу слава!) и как, примером, в иных местах цена на хлеб маленечко посошла.