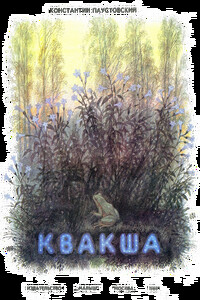Тогда уже даже неискушенному в литературе человеку было ясно, что Бабель появился в ней как победитель и новатор, как первоклассный мастер. Если останутся для потомков хотя бы два его рассказа – «Соль» и «Гедали», то даже два этих рассказа свидетельствуют, что движение русской литературы к совершенству столь же устойчиво, как и во времена Толстого, Чехова и Горького.
По всем признакам, даже «по сердцебиению», как говорил Багрицкий, Бабель был писателем огромного и щедрого таланта. В начале этой статьи я говорил о первом впечатлении от человека. По первому впечатлению никак нельзя было сказать, что Бабель – писатель. Он был совершенно лишен шаблонных качеств писателя: не было ни внешней красоты, ни капли позы, ни глубокоумных бесед. Только глаза – острые, прожигающие вас насквозь, смеющиеся, одновременно и застенчивые и насмешливые – выдавали писателя. И беспокойная, молчаливая грусть, в какую он впадал время от времени, тоже изобличала в нем писателя.
Тем, что Бабель стремительно и полноправно вошел в нашу литературу, мы обязаны Горькому. В ответ Бабель относился к Горькому с благоговейной любовью, как может относиться только сын к отцу.
…Почти каждый из писателей получает путевку в жизнь от старшего товарища. Я считаю – и с некоторым основанием, – что такую путевку в числе прочих дал мне Исаак Эммануилович Бабель, и потому я сохраню до последнего своего часа любовь к нему, восхищение его талантом и дружескую благодарность.
1966
Я давно знал и любил Всеволода Вячеславовича Иванова, но любил с некоторой опаской. Он казался мне человеком, вырезанным из крепкого кедрового корня, человеком суровым и особенно беспощадным к людям, заблуждающимся в своей литературной работе.
К этим людям я причислял в то время и себя, так как писал несколько сентиментально и в языке моем не было настоящего удара.
Мне казалось, что за это Всеволод Вячеславович посматривал на меня искоса – вроде не одобрял. Я часто ловил на себе его испытующий взгляд.
Все это кончилось неожиданно. На каком-то утомительном и табачном заседании в Союзе писателей я получил от него записку. Перед тем я напечатал в одной из газет рассказ «Ночь в октябре». «За этот один рассказ, – писал в записке Всеволод Вячеславович, – я бы сразу принял вас прямо в президиум Союза писателей».
Я посмотрел на него. Он сидел насупившись и что-то тщательно рисовал на листке бумаги.
С тех пор мои страхи прошли, и чем дальше, тем больше я узнавал этого необыкновенно прекрасного, доброго, талантливого и застенчивого человека. Он все понимал до конца, был добр, но вместе с тем беспощаден к людям, как я уже сказал, изменявшим самим себе и своему делу. Это он расценивал как бесчестье.
Он любил человеческий талант, так как сам был необыкновенно, щедро талантлив. Поэтому на всякое ущемление и унижение таланта он отзывался с таким сокрушительным гневом, что становилось страшно за него самого. Он справедливо думал, что каждый истинно талантливый человек является гордостью народа и требует к себе элементарного человеческого уважения.
Без Иванова наша писательская жизнь потеряла одну из самых надежных, спокойных и, я бы сказал, могучих «сибирских» опор. По натуре Всеволод Вячеславович был сибиряком.
У Всеволода Вячеславовича было одно редкое свойство – он всегда выражал проще и значительнее, хотя и молчаливее, чем мы, свое отношение к людям и к миру. Он был проницателен, иногда неожиданно и весело проницателен – и это его свойство в угадывании людей и обстоятельств веселило всех окружающих и его самого.
Кем он был в нашей писательской жизни? Прежде всего, новатором и настоящим волшебником, колдуном.
Подлинное творчество, по словам Горького, мало чем отличается от волшебства, – подлинное творчество, с его неожиданными разливами, взрывами и тишиной, неслыханным разнообразием людей и событий и всепоглощающим миром чувств и страстей.
Иванов был золотоискателем, замечательным новатором во всем, от самого себя – уроженца Иртыша, наборщика, факира, путешественника и человека неукротимого воображения и острейшего ума – до работяги писателя, мастера, одного из «Серапионовых братьев». Он создал свой стиль, свой язык, свой мир, который он уверенно направил по широким литературным трактам.