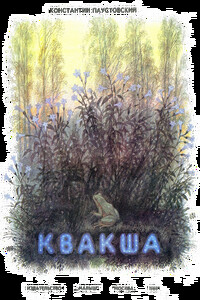Когда Пришвин писал свой рассказ «Башмаки» – рассказ, как он собрал в Марьиной Роще сапожников, так называемых волчков, он сказал: «Придумайте фасон туфель для женщины будущего», – и все сапожники взволновались, перессорились, так и не придумали, но поручили Пришвину тоже участвовать в этом деле, вырабатывать фасон туфель, и он ходил по всей Москве и смотрел на ноги, изучал туфли, и через изучение туфель он раскрыл колоссальное количество интереснейших вещей: «Я научился определять культурность человека, его характер; смотришь, вырезаны уголки кожи, это значит игрок, потому, что игроки суеверны – если вырезаны уголки кожи, думает игрок, то он выиграет».
Такие мелочи дают очень большое развитие наблюдательности. Вместе с тем существует у писателей одна черта: некоторые писатели утомительно наблюдательны. Они в свои вещи вставляют массу деталей, которые совершенно не играют, не дают вещи никакого колорита и вставлены потому, что автор это заметил и это ему кажется интересным. С этим тоже надо бороться.
Вопрос о записных книжках. Этот вопрос очень спорный. Я лично никогда не вел записных книжек и враг их, потому что проба работы на материале записных книжек привела меня к убеждению, что это для меня бесполезно. Наша память лучше всякой записной книжки, потому что она не только сохраняет факты, но делает отбор, оставляя то, что нужно. Это своего рода таинственная кладовая, и гораздо лучше черпать из памяти, чем из записных книжек. Для меня записные книжки существуют как особый, очень интересный литературный жанр, как «Записные книжки» Чехова, «Записные книжки» Ильфа.
Существует много писательских предрассудков, и об этом стоит сказать. На читках и обсуждениях вы можете слышать такие высказывания, что эта вещь плоха, потому что в ней нет сюжета. Может быть, я говорю так, потому что для меня сюжет – это очень трудная вещь. Я люблю внутренний сюжет, но внешний мне дается с трудом. Я считаю, что в данном случае должна быть полная свобода в этих вещах. Я глубочайшим образом завидую людям, которые великолепно владеют сюжетом.
Есть один молодой писатель – я его имени не назову, – который великолепно владеет сюжетом. Чехов говорил Короленко: «Вот чернильница, через пять минут я напишу вам рассказ». Этот человек говорит: «Скажите мне слово, и я вам сразу расскажу рассказ, причем без всякого перехода».
Я как-то в это не очень поверил, когда мне сказали об этом, потом я встретился с ним. Он сказал – дайте слово. Мы дали слово «скелет», слово довольно трудное, и он тут же начал рассказывать. Я примерно расскажу вам содержание: вор залез в лабораторию, но ошибся комнатой и влез в комнату рядом с лабораторией. Дверь заперта, комната пуста, и стоит скелет. Что делать? Он решил, что он возьмет хотя бы этот скелет; он сбросил его со второго этажа на улицу, у скелета сломались руки и ноги, вор слез и принес скелет домой. Засунул его под кровать, пошел к скупщикам краденого – никто не покупает – зачем им скелет? Скелет лежит под кроватью, и вору делается как-то скучно. Месяц под кроватью лежит скелет, и вор стал неврастеником. Вдруг он читает в «Вечерке» объявление, что артель «Мозаика» покупает подержанные скелеты. Он схватил свой скелет и потащил в эту артель и продал, боялся даже спросить, зачем им подержанный скелет, – вдруг не возьмут? Он продал, пришел домой, и тут опять, так как он уже неврастеник, его стала мучить мысль – зачем людям нужен скелет?
Потом был праздник, вор вышел потолкаться и видит, по улице Горького идут демонстранты и несут его скелет, в цилиндре, с перебитыми ногами и руками, и надпись: «Если вы, мистер Чемберлен, будете лезть, мы вам переломаем руки и ноги, как этому скелету».
Это делается молниеносно. Давали еще более трудные слова, он тут же придумывал рассказы. Это человек исключительно ценный для кино, но это особая способность, которой не многие обладают, и, как это ни странно, человек этот не может и не умеет писать: когда записывает сюжет, это получается «вареная вобла». Ему попала часть того, что должно принадлежать всякому писателю.