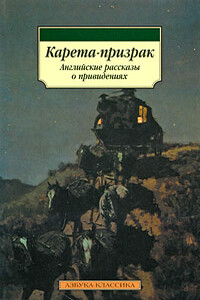Поэтому мои успокоительные речи пришлись ему по душе. Он именно на то и рассчитывал: обнаружить здесь бедолаг и недоумков, раздавленных жизнью, голодных, не помышляющих ни о каких идиотских возмездиях, готовых на любое предложение с его стороны; и в довершение всего, совершенно неожиданно, получил еще и меня, такой, можно сказать, великолепный «подарок».
Итак, он крадучись обшаривал комнату, гнусаво напевая под нос какой-то заунывный мотивчик. Звуки эти ужасно напоминали монотонное шипение, какое издают гады, затаившиеся в засаде в ожидании добычи, среди густой травы где-нибудь в зарослях джунглей. Тонкое то ли шипение, то ли свист сквозь зубы, без всякой мелодии. Он потихоньку исследовал все предметы, находившиеся в комнате, — секретер, триптих, резьбу по дереву испанской работы, кресла. Ничего, кроме глубочайшего презрения, все это у него не вызывало.
Потом он приблизился к окну и ненадолго задержался там. Прижавшись носом к стеклу, стал смотреть на площадь. И хотя в тот вечер должно было случиться еще немало ошеломляющих событий, связанных с ним, и даже гораздо более значительных, этот момент врезался мне в память. Пенджли принял позу, в которой я его запомнил навсегда. Его сухое, облаченное в поношенную хламиду тельце приподнялось на цыпочки (любопытно, что его одежда обычно была до такой степени заношена, что лоснилась; с самого первого дня моего знакомства с ним она неизменно была в таком состоянии); его физиономия жадно приникла к окну. Он глядел вниз. Не сомневаюсь, что в это время он высматривал в толпе там, на площади, очередные десятки будущих своих жертв.
И снова я, сидя в кресле поодаль от окна, увидел мысленным оком площадь под снежным покровом и маленькие черные фигурки, разбегающиеся по ней в разные стороны в поисках укрытия, — и вот уже никого, лишь опустевшая, безжизненная, девственная в своем белоснежном уборе площадь.
Пламя свечей в серебряных канделябрах затрепетало, словно тронутое таинственным дуновением. Пенджли повернулся и посмотрел на меня; я понял его взгляд. В нем была безмерная радость и вместе с тем — презрение.
— Значит, хотите работать на меня, так ведь? А есть ли у вас опыт?
— В чем? — не понял я.
— Ну в игре на человеческих чувствах… С людьми надо играть…
— Вы имеете в виду шантаж? — спросил я.
— Нет, зачем же так… — Кончик его языка на миг показался и исчез. — Это слишком грубо звучит. Я не люблю это слово, и чем реже мы будем его употреблять, тем лучше будет для всех нас.
Отвернувшись от окна, он очень близко подошел ко мне и стоял, будто ощупывая меня глазами, оценивая, как товар.
— Припоминаете Робин Гуда?
— Припоминаю ли я Робин Гуда? — сказал я. — Не имел чести его знать, если вас это интересует.
Но моя шутка не имела у него успеха. У меня в памяти остался взгляд, которым он меня удостоил в ответ, — свирепый и беспощадный. Уверен, точно таким взглядом он пронзал незадачливых своих пособников, когда те чем-то ему не угождали.
— Тут не до шуток, — отрезал он. — И если вы войдете со мной в дело, шутить вам не придется… Ладно. Так чем занимался Робин Гуд? Он отбирал деньги у богатых и отдавал их бедным. Устанавливал справедливость, так сказать. Он и его шайка годились для своего времени, а я со своими людьми — хорош для нашего. Но методы те же.
— Понятно, — сказал я. — А вы тоже отдаете свой улов бедным?
Он снова с недоверием впился в меня глазами.
— Не ваше дело, что я отдаю бедным, — проговорил он. — Сами скоро узнаете.
И затем, стоя передо мной, Пенджли запел победную песнь, каких не складывал еще ни один бард, — гимн самому себе, властителю мира. Он восхвалял свою бесконечную мудрость, свое тонкое знание человеческих душ; он издевался над своими жертвами с их жалкими слабостями и грешками и, упиваясь, описывал, как они вопят, умоляя его сжалиться над ними, ползают у него в ногах, напрасно унижаясь, но он остается тверд и непоколебим, не поддаваясь на их мольбы, не изменяя себе в своем беспощадном, бессердечном деле. Он воспевал свою власть над людьми, свое умение их покорять, столь совершенное, что он даже превосходил в нем всех прочих известных в истории великих завоевателей… И пока он этак бахвалился передо мной, мне становилось ясно, что он и впрямь диковинное явление в этом мире: ему абсолютно было чуждо чувство жалости, стыда, раскаяния. Ничто не могло ни смягчить его сердце, ни вызвать в нем укоров совести, которой у него просто не было — ни капли. Постепенно до меня доходило, что по крайней мере в одном Пенджли прав: он действительно уникален в своем умении успешно добиваться цели; действовать без стыда и совести, презирая всякие приличия, не считаясь ни с какими человеческими чувствами и представлениями о морали. Да, это был уникум в своем роде, пришелец с другой планеты, князь тьмы среди людей.