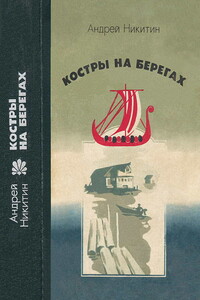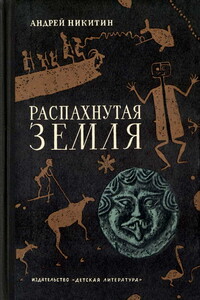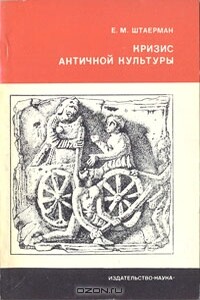Однако если археология, этнография и лингвистика согласны в том, что финны и, по-видимому, карелы пришли на места своего теперешнего обитания по северным лесам из-за Уральских гор, то кто были первоначальные жители этих мест и в каком отношении к тем и другим находятся саамы? Можно было бы допустить, что саамы тоже пришли с востока, из Большеземельской тундры, как то сделали ижемцы в последних годах прошлого века: часть их со своими стадами переправилась через горло Белого моря, часть обошла Белое море с юга. Но принять эту гипотезу мешает лапландский олень. Коренной обитатель Скандинавии, как то можно установить по наскальным изображениям, насчитывающим более десяти тысяч лет, он столь отличен от восточного, большеземельского оленя, что их разное происхождение зоологам представляется бесспорным.
А лапландский олень и был самым главным, самым решающим доводом в этой загадке. Особенности его строения, экстерьер, образ жизни позволяют думать, что лапландский олень был прямым потомком оленей последнего ледникового периода, на которых охотились палеолитические охотники Европы. Подвижный, быстро размножающийся, он оказался более выносливым и жизнеспособным, чем мамонт и дикий бык, выбитые древними охотниками, вероятно, еще на среднерусских равнинах.
Лапландский олень уцелел и пропутешествовал вслед за ледником до Ледовитого океана. Случилось так, что на севере Европы он нашел настолько подходящую для себя среду обитания, что до последнего времени успешно сопротивлялся наступлению цивилизации. Подорвать его поголовье на Кольском полуострове смогла не охота, не строительство рудников, заводов и дорог, а вторжение стад большеземельского, североазиатского оленя.
Биологическая конкуренция оказалась гораздо страшнее хищников. На смену вольному выпасу, когда с ранней весны до конца лета саамские олени разбредались по тундре и выходили на берег моря небольшими группами, пришла регулярная пастьба стада в несколько тысяч голов. Гигантские стада не столько поедали нежный и хрупкий ягель, единственную пищу оленей, сколько разбивали почву и вытаптывали пастбища, на которых те же тысячи оленей вполне могли кормиться долгие годы, будь они разобщены.
Ни карелы, ни финны оленей не приручили. Если в хозяйстве у них и оказывались олени, то на поверку выходило, что обращались они с ними, как и русские, то есть копируя саамов.
Как бы далеко в прошлое ни заглядывал этнограф, всякий раз получалось, что на севере Европы только саамы были исконным «оленным народом».
Смутные предания, передававшиеся от поколения к поколению, доходившие к исследователям уже в жалких отрывках, рассказывали, что некогда «праудедки» саамов бродили по тундре, останавливались у озер и рек, иногда на короткое время, иногда — подольше. Они выходили на Терский берег, к морю, потому что весь он с лесами, сосновыми ягельными борами, с реками, богатыми семгой, принадлежал саамам, и только потом их оттуда оттеснили русские. А вот оленей у каждого саама тогда было немного — столько, сколько нужно, чтобы перевозить с одного места на другое семью и пожитки.
Были еще «манщики» — ручные олени, с которыми охотились на диких оленей. Остальные бродили на свободе, и только весной да осенью саамы собирали воедино эти группы, чтобы олени не совсем отвыкали от человека.
Такой порядок, лишь в небольшой степени измененный, можно было наблюдать еще совсем недавно у саамов, кочевавших между центром полуострова и Мурманским берегом. Именно здесь, на Кольском полуострове, глазам исследователей представала та сезонная цикличность жизни людей, зависящих от природы и связанных с нею неразрывными узами, в которой главенствующую роль играл своего рода симбиоз человека и животного, настолько тесный, что было трудно определить, кто же кого приручил: человек оленя или олень человека.
В самом деле, начиная с весны, когда у оленей появляется потомство, они тянутся из лесов в лесотундру, к берегу моря. Там открытые пространства оберегают их от внезапного нападения хищников, там раньше появляется свежая трава, раньше начинает зеленеть кустарник, а ветер спасает от гнуса, появляющегося следом за теплом.