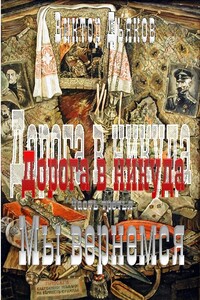Иван в шерстяных носках, неслышно ступая по мягкой кошме, прошёл через гостиную в комнату Полины. Ивану всегда нравился уют и необычный для казачьего дома достаток фокинского дома. О том достатке говорило буквально все, и тяжелые плюшевые портьеры на окнах, изысканная гнутые венские столы, стулья и кресла, покрытые лаком насыщенного темно-коричневого цвета, солидные, сделанные под старину, пузатый комод, буфет с цветными стеклами в узорных дверках, с резными украшениями, большой платяной шкаф со столь же большим зеркалом. На отдельном столике, ослепительно блестя, возвышался большой «боташевский» самовар. Если дверь в спальню хозяев приоткрыта, то можно увидеть огромную варшавскую кровать с фигурными украшениями на спинках в виде тонкого чугунного литья. В углах гостиной стояли большие фикусы в кадках. Во всех комнатах ярко горели керосиновые лампы. В отличие от Решетниковых здесь керосин не экономили, его у Тихона Никитича всегда было запасено впрок.
Полина нарочно не вышла встречать жениха, как она это делала обычно, а сидела за столом и проверяла школьные задания учеников. Таким образом, она выказывала, что сердится на него за опоздание. Ее комната была примерно вполовину меньше гостиной, но тоже весьма немаленькая. Убранство, правда, попроще, разве что портьеры на окнах были такие же, а кровать естественно и поуже и перина на ней не столь внушительна, и подушки не горкой, как в спальне родителей, а одна, правда большая и туго набитая хорошим пухом. Еще здесь имелось светло-коричневое пианино, купленное после окончания Полиной пятого класса гимназии и переправленное, как и вся остальная дорогая мебель из Семипалатинска специальным рейсом на личном пароходе купца Хардина. Здесь же в углу комнаты был приткнут и граммофон на маленьком столике, рядом возвышались стопки пластинок. Вообще-то граммофон, пака Полина училась в гимназии, стоял в гостиной и заводился по праздникам, или с приходом важных гостей. Но, как только дочь закончила свою учебу и окончательно вернулась в родительский дом, она его незамедлительно «реквизировала», ибо куда чаще родителей любила слушать пластинки, большую часть которых сама же и привезла из Семипалатинска…
Иван подошёл сзади и положил руки ей на плечи, покрытые кашемировым платком. Она попыталась освободиться, состроив недовольную гримасу. Он же завалил её назад вместе со стулом и хотел поцеловать…
– Ну, вот ещё, что за моду взял?… Пусти!.. – Полина не давалась. – Что это вы, господин сотник, себе позволяете!? – данные слова должны были означать ее крайнее неудовольствие.
Полина вырвалась, отложила перьевую ручку, вскочила со стула и вновь изобразила почти неподдельное возмущение.
– Ну, Поля, ты же знаешь, сбрую чиним, к севу готовимся. Ну, и брат, Степан, с ним заговорился, ну прости, – молил, скрестив руки перед грудью, Иван.
Иван был прощён через пять минут. Молодые люди уселись на тахту и занялись тем, чем регулярно занимались уже больше месяца, после того, как было объявлено о предстоящей свадьбе. В казачьей среде физическая близость до свадьбы в уважаемых семьях была немыслима, и у Полины с Иваном не могло возникнуть таких поползновений. Но даже то, что они себе позволяли, наверняка бы, вызвало осуждение в станице. И Домна Терентьевна и Тихон Никитич догадывались, чем занимаются молодые, уединившись в комнате Полины. Но родители делали вид, что ничего особенного не происходит, так же вела себя и прислуга, и уж тем более никто ничего не знал вне фокинского дома, ведь все постоянные обитатели атаманского подворья никогда не выносили «сор из избы».
Уже по тому, как Иван её ласкает, Полина почувствовала, что он сегодня какой-то не такой как всегда. Обычно он с горячим упорством преодолевал её показное сопротивление. Сейчас же эта горячая нетерпеливость явно отсутствовала. Даже дотрагиваясь до её весьма интимных мест, он действовал скорее механически, не выказывая ни жара, ни сдерживаемого желания.
– Что с тобой Ваня? Ты как будто всё время о чём-то думаешь, – не могла не озаботиться данным обстоятельством Полина.