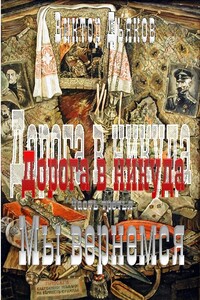Иван поторапливал своих. Казаки растаскивали скирдованное сено, укладывали на подводы, кормили лошадей…
– Станишники!.. Забирайте… все забирайте, пущай вам послужит, лишь бы антихристам не досталось, – какой-то пожилой, по всему зажиточный казак настежь открыл ворота и отдавал зерно из амбара, овес…
Казаки тут же на месте перекусывали, что им со всех сторон несли местные казачки…
– На, поешь, родимый… мой-то, вот так же где-нибудь…
Иван, спешившись, ходил осторожно, чтобы не наступить на распростертые в самых невероятных позах тела…
– Ваше благородие… господин есаул!? Это как же так, неужто вы сразу и уедете? Так же нельзя, на кого ж вы нас… Видите, что они тут за полдня натворили, – приставал к Ивану немолодой станичный писарь, считавший, видимо, себя оставшимся за станичного атамана, который ушел вместе с отступившей бригадой.
– Ничем не могу помочь отец… Вы, это, организуйте пока баб и стариков, чтобы эти тела куда-нибудь спрятать, или закопать. А то ведь когда они придут и увидят своих порубленных, опять озвереют… пока у вас время есть, – пожалел несчастных станичников Иван, не будучи в состоянии оказать им более существенной помощи.
Станица «Горькой линии» была большой, но не так велика, как Усть-Бухтарма, и совершенно на нее не походила. Располагаясь в голой, открытой всем ветрам степи, она как бы делилась на две части, зажиточную застроенную большими бревенчатыми домами-пятистенками и бедную, состоящую из саманных хибарок. Впрочем, сейчас и богатые дома смотрелись неважно, в них были выбиты двери, стекла, снесены ворота. То там, то здесь, на земле и ступенях крыльца видны кровавые следы и лежали трупы, как хозяев, так и красноармейцев. Кругом царило горестное ожесточение, из домов слышались стоны и женские рыдания, многие молодые и средних лет казачки бегали в порванных платьях… Они так похожи на женщин в Усть-Бухтарме. В той мирной жизни они были такие же статные, гордые, одетые в обтягивающие сверху и расширявшиеся к низу платья. Сейчас… они уже совсем не гордые, смешливые, кокетливые… они перепуганы, а многие и обесчещены. Ведь станица была отдана в полную власть победителей и они «наслаждались» здесь своей победой где-то часа четыре.
Иван не мог больше на все это смотреть. Он передал через порученцев приказ сотенным командирам:
– Всех выявленных красных расстреливать на месте… Грузить фураж и продовольствие, но все делать быстрее, через час выступаем…
Он тронул коня, чтобы выехать на окраину станицы, где размещался обоз стрелковой бригады, но по дороге остановился возле здания высшего станичного училища, такого же, как и в Усть-Бухтарме. Здесь располагался тот самый госпиталь, эвакуацию которого его полку предписывалось прикрывать. Иван спешился. Раненые, числом не менее полутора сотен частью были изрублены, частью пристреляны. В коридоре лежал труп без головы…
– Это начальник госпиталя, – пояснил кто-то.
Иван повернулся и вышел, взял повод из рук ординарца вскочил в седло и, стараясь не смотреть по сторонам, поскакал в обоз. Если в станице трупы местных уже унесли родственники и на улицах лежали только красноармейцы, то в обозе они по прежнему валялись вперемешку, и продолжающий падать снег ложился на лежащих рядом красных и белых… на застреленного уже несколько часов назад белого офицера, и разрубленного почти до крестца совсем недавно комиссара в кожанке, мертвой хваткой вцепившегося в рукоять маузера. У одной из крытых повозок с красным медицинским крестом в предсмертной судороге некрасиво оскалилась сестра милосердия. Рядом с нею валялся пистолет и стреляные гильзы. Видимо, она отстреливалась, пока не была убита. По причине, что ее не захватили живой, на ней не было разорвали платье, а юбку не задрали… в отличие от тех сестер, что красные захватили в госпитале, погибших в результате бесчисленных зверских изнасилований.
Начальника штаба бригады Иван нашел в обозе. Полковник отрешенно стоял над телом женщины. Даже с повязкой на голове, измученный и убитый горем, он смотрелся никак не старше сорока лет. Застывшей в безмолвном крике его жене по всему было не больше тридцати двух, хотя, возможно, печать смерти омолодила ее черты. Она лежала на повозке, из одежды на ней оставались какие-то обрывки кружевного белья, а тело… То было роскошное, холеное тело, в самом расцвете женской силы. Крупные хлопья снега ложились на эти прекрасные бедра, живот, грудь… запрокинутое назад лицо. Природа, словно стыдясь людских деяний, укрывала саваном ее… и морской кортик, загнанный по самую рукоять, как раз в ложбинку между большими полукружьями груди.