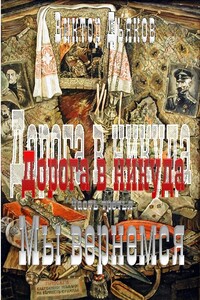– Так что же, господин комиссар, ответь, за что воюешь, зачем народ взбаламутили ты и вот эти? – атаман кивнул в сторону сарая, где были собраны, наиболее «высокопоставленные» пленники. – Ты значит, идейный, борешься за счастье трудового народа, против мирового капитала… Так что ли? – с усмешкой вопрошал атаман.
Допрос велся в избе, поздним вечером при свете керосиновой лампы, окна давно уже были без стекол и сейчас их заделали кусками фанеры и досок.
– Да пошел ты… Хватить брехать ваше благородие, ведь все равно расстреляешь. Ну, так приказывай своим опричникам, а то мочи нет слушать тебя, – Тузов с разбитыми губами, заплывшим глазом, с повисшей плетью одной рукой, то ли вывихнутой, то ли перебитой, испытывал сильные физические мучения и, скорее всего, действительно хотел поскорее умереть, чтобы их прекратить.
– Нет, ты подожди, успеешь еще к стенке встать. Понимаешь, к нам еще никогда не попадали такие как ты, большевики из идейных. Вот хочу посмотреть на тебя, каков ты изнутри, с какой начинкой, чтобы нам знать, что из себя представляют те большевики, что всю эту кашу заварили, – атаман посмотрел на командиров полков специально собранных, чтобы присутствовать при допросе высокопоставленного большевика.
Иван тоже присутствовал при этом, внимательно приглядываясь к, казалось бы, нервно, зло, но в то же время совершенно равнодушно дожидающемуся своей участи человеку.
– Ты из рабочих?
Анненков любил не просто говорить с пленными а, используя силу своего обаяния, «перекрашивать» их, делать из красных белыми. И ему это довольно часто удавалось. Если красноармеец, или даже красный командир храбро сражались, брались в плен в бою и без страха были готовы принять смерть… С такими атаман беседовал иной раз подолгу. И многие после таких бесед изъявляли желание вступить в «Партизанскую дивизию» и проявляли в боях, как говорится, чудеса храбрости, воюя против тех, с кем совсем недавно были в одном строю. Но сейчас, пожалуй, впервые атаман пытался перевербовать комиссара очень высокого ранга.
– Да… из рабочих.
– Откуда? – вкрадчиво спрашивал Анненков.
– А это не твое дело… Слушай атаман, рука у меня болит, мочи нет терпеть. Если доктора не позовешь, к стенке ставь, и не о чем мне с тобой разговаривать, – кусая губы, чтобы превозмочь боль, с остервенением отвечал Тузов.
– Терпи, Господь терпел и нам велел, – с насмешливой издевкой говорил Анненков. – Ты лучше объясни мне, за что воюешь, за какой такой трудовой народ, за какое такое светлое будущее и для кого? А то неведомо нам. Разъясни, может и мы в большевики запишемся, – избу потряс дружный смех «зрителей».
– Замучил ты меня, сволочь… Дай хоть присесть, – потребовал Тузов.
– Ответь на вопрос… а тогда посмотрим.
– Тогда слушайте суки золотопогонные… все слушайте. Я последний день живу и ничего не боюсь, вас гадов тоже не боюсь. Плевал я на весь этот трудовой народ, как и ты!.. Понимаешь!? Я за свое светлое будущее бился, так же как ты за свое. Только у тебя и у твоих папаши с мамашей было светлое прошлое, а у меня и моих его не было. Потому мы и сильнее хотим этого светлого будущего чем вы, и победим в конце концов!.. Ну не я, так другие, такие как я!
Ответ прозвучал настолько неожиданно, что в избе на некоторое время воцарилась тишина. Кто-то не понял, что сказал комиссар, кто-то осмысливал… Видя это замешательство, Тузов будто почувствовал прилив сил:
– Ну что зенки-то вылупили господа-беляки, мне все одно пропадать, потому я что думаю то и говорю, как на исповеди, хоть и не верую в Бога вашего. Всегда удивлялся, почему людишки верят в эти картинки на иконах намалеванные. Вот я и хотел сам Богом стать, своими руками жизнь себе сотворить, а не молитвами. И сотворил бы, ежели бы ты атаман на пути моем не встал. Кабы не ты, ни в жисть бы никому нашу оборону здесь не сокрушить, потому ты и есть мой самый смертный враг. Ты мою дорогу в это самое светлое будущее заступил.
– Так-так… Понятна твоя линия. Так ты, значит, в самые большие начальники в вашем большевистском руководстве выйти мыслил? – с интересом спросил Анненков.