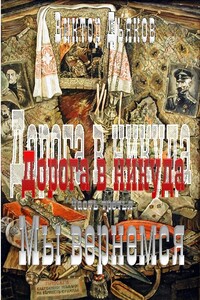– А, что там с ними взрослых не было никого, увести спрятаться где-нибудь не могли? – недоумевал Степан.
– Были, учитель с женой. Тоже оба убитые. Жена беременная была. У неё живот разрезали, плод достали и сапогами растоптали. Детей мы там более сорока человек насчитали и монахов человек тридцать они живьем сожгли. Целый день мы их хоронили. Я сам нескольких девочек с этих кольев снимал, лет по четырнадцать им было. На фронте вроде сколько крови лилось, а вот такого ни разу видеть не пришлось, – Иван тяжело вздохнул будто после тяжелого усилия.
– Дааа… на фронте смерть оно дело обычное, солдат, казак ли, офицер… оне должны быть к ней завсегда готовы, а вот про то, что ты рассказал… Да брат, понимаю тебя.
Помолчали в тоскливом полумраке. Но потом Степан вновь осторожно подвиг брата к продолжению своего рассказа:
– Ну, а потом-то как, ты про Персию-то расскажи?
– А и рассказать-то нечего, пески, жара, да малярия. По пути все так ошалели от той жары, что и не заметили, как за границей оказались. Один чёрт, что в Закаспийской области, что в Персии, и пустыня та же, и жара, и люди по-русски не понимают. Там мы и не воевали совсем и никаких турок не видели. Сначала в карантине стояли, полполка болело, а после октября назад до Ашхабада маршем шли. Там в эшелон загрузились и вперёд на расформирование. Правда, в Ташкенте страху натерпелись. Нас на запасные пути загнали, с двух сторон красногвардейцы с пулемётами эшелон обложили. Тут до нас слухи дошли, что они, красные эти, наказного семиреченского атамана, генерала Кияшко, там же в Ташкенте с его семьей изрубили. Так что они вполне могли и нас порешить. Приказали нам разоружиться и выдать всех офицеров.
– Что, офицеров… это как же так! – не мог скрыть возмущения Степан. – И что, вы же там с оружием, артиллерией, все фронтовики, не могли их шугануть!?
– Как шугануть. Мы же в теплушках по три взвода в каждой, артиллерия отдельно, лошади отдельно, пулемётная команда отдельно, боеприпасы отдельно. Они же весь наш эшелон разделили и на разные пути поставили. И в красной гвардии тоже не неуки собраны, тоже фронтовики из туркестанских стрелковых полков. Да они бы нас в тех теплушках всех бы и положили, из пулемётов их прошили бы, – пояснил ситуацию Иван.
– Ну, и как же ты-то, неужто выдали тебя? – в вопросе звучало и непроизнесённое: казаки не солдаты из мужиков, они к своим офицерам никогда как к барам, которых ненавидели рядовые, не относились, они к ним в основном товарищами, земляками считали.
– Конечно нет… Ко мне сразу Федот Гладилин подошел из Красноярского посёлка, матери нашей сродственник, помнишь? Так вот он мне свою запасную шинель даёт, говорит, одевай, как рядовой казак пройдёшь. Потом гляжу, и другие казаки моей сотни бегут, мы тебя сотник не выдадим, схоронишься промеж нами. Я им и говорю, братцы у кого шинели запасные, папахи есть, отдайте офицерам. Конечно, если бы они силу чувствовали, они бы шинели те с нас поснимали и поняли, кто есть кто. На наше счастье большевики торопились сильно, там у них какая-то перестрелка в городе началась. Потому они нас всех поскорее дальше отправили и под шинели не стали заглядывать. А вот орудия, целый дивизион, винтовки и боеприпасы пришлось оставить, еле лошадей да холодное оружие, что с нами было, сохранили. Так что моя кобыла так со мной и приехала домой…
Луну за оконцем сеней заслонили откуда-то набежавшие высокие перистые облака, и разговор братьев продолжался уже в полной темени, что ими совсем не воспринималось как какое-то неудобство – ведь им, несмотря на кровное родство мало знающим друг-друга, не часто приходилось вот так по душам поговорить в их прежней жизни.
– А сам-то ты, как добирался… почему в таком виде приехал, где форму-то потерял? – вроде бы без всякого выражения спросил Иван, но офицерские, начальственные нотки сами собой зазвучали в его голосе.
– Ишь ты, никак осуждаешь, господин сотник. Думаешь, брат твой дезертир, оружие, амуницию бросил и навродь зайца через всю Россию бёг, – даже не видя лица, чувствовалось, что Степан недоброжелательно буравит брата взглядом.