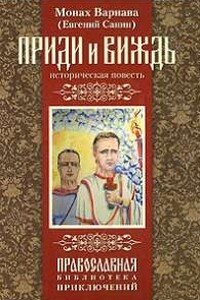– Ива! – вскричал он, сорвав с гвоздя и прижав к своей груди грязные лохмотья. – Ты людоед; ты убил, изжарил моего друга; ты угощаешь меня телом Арпина! Я убью тебя.
Результат нарушения запрета был ужасен: Виргиний никогда прежде не мог даже вообразить ничего подобного, и теперь ясно понял, отчего жертвоприносители почти всегда разбегались, как безумные, из пещеры Инвы, находившейся в приречном холме.
Замахнувшись на медведя секирой, он, вместо нанесения удара, бросился бежать, нанося раны самому себе по рукам, плечам, ногам, орудием, болтавшимся на ремне в его пальцах, прижимая к себе плащ Арпина.
Дело в том, что едва Виргиний прокричал свои возгласы, как из всех углублений и коридоров подземелья раздались никогда им не слыханные звуки, как бы шепот, шуршанье, каких-то существ, пока еще незримых, но уже начавших возиться где-то вдалеке, поднимающихся с логовищ, готовящихся лететь сюда, к Виргинию, ставшему жертвой Инвы лишь только он нарушил его запрет, служивший, быть может, испытаньем для каждого заманенного чудовищем в его подземные владения.
Шепот превратился в говор, в крик, в вопль, звериное рычанье, в котором ясно повторялись все слова, произнесенные забывшимся юношей, но искаженные, перемешанные.
– Ты людоед! – кричал этот сонм незримых врагов, отголосков пещеры. – Ты убил Арпина, угощаешь Инву телом друга... Убью, убью тебя!..
Медведь, тоже забывшись, побежал вдогонку за обезумевшим Виргинием, закричав:
– Не бойся! Не бойся!
И в усилившиеся отголоски впуталось новое слово.
– Бойся! Бойся, людоед! Изжарил, убил Арпина. Бойся меня!..
Ударившись с разбега теменем об камни устья пещеры, Виргиний лишился чувств, не сознал, как выбежавший за ним друг отнес его прочь от этого ужасного места, до сих пор не понимая, что тому причиной, но привести его в сознанье не мог, поспешил скрыться, приметив, что краем трясины идут люди из местных поселян, среди которых одни уважали Руфа, как жреца, за «святость» жизни, а другие ненавидели, как вымогателя всяких поборов с подкладкой религиозных предлогов, тирана своих рабов и членов семьи, выдумщика ложных чудес Юпитера, заведомо вредного наушника, увивающегося около царского зятя.
ГЛАВА VIII
Среди друзей и недругов
Виргиний очнулся в толпе сторонников и противников его деда, когда увидевшие его уже успели позвать других, а те – оповестить все соседство.
Многие из этих поселян попали сюда по той причине, что возвращались мимо трясины из Рима с базара, где они узнали о катастрофе на царской тризне в искаженном виде, как и о ходе восстания в союзных этрусских городах, сделавших набег на римские земли.
Окружив лежащего в обмороке юношу, они спорили, вырывая из рук одни у других доставшийся им трофей – окровавленный плащ Арпина, о судьбе которого обе партии были согласны, полагая будто Виргиний убил его, навязавшись дружески проводить вон из города, коварно обещав защиту, подученный на это своим дедом или сыном Вулкация.
Поселяне кончили спор тем, что разодрали плащ надвое: одни, готовясь нести эту ветошку вместе с больным Виргинием на виллу фламина, бывшую подле земель Турна, а другие решили нести доставшийся им отрывок в Рим к Скавру, как несомненное доказательство гибели его сына.
Все они одинаково шумно привязались к очнувшемуся Виргинию, одни с льстивыми поздравлениями выполненного кровомщения за Вулкация, а другие с угрозами, что погубление сына Скавра ему даром не пройдет.
Живший лет за 200 до этого времени третий властитель римский от Ромула, царь Нума Помпилий, всеми силами старался смягчить нравы народа, отменил некоторые варварства в жертвенной обрядности и обиходных семейных обычаях, но обязанность родового кровомщения он вывести не мог[4].
Так поступали и все, после него бывшие, цари.
Все, что было в их силах, они делали для обуздания лютости вкоренившихся традиций: не принимали активного участия в таких делах, относились к ним пассивно, холодно, не давали помощи мстителям, а в спорных пунктах, при подаче голосов на совете сенаторов, защищали подлежащих родовой мести, выгораживали, уговаривали мстителей на мир и прощение.