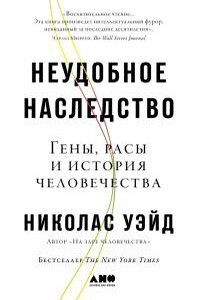На заре человечества: Неизвестная история наших предков - страница 22
Хомски не признает, что отговаривал кого-либо изучать эволюционный аспект языка: его позицию, утверждает он, извратили.
«Я никогда не высказывал ни малейшего возражения против изучения эволюции языка», – говорит Хомски. Свои взгляды на предмет он кратко изложил в лекциях 25 лет назад, но оставил вопрос нерешенным, потому что, как поясняет ученый, ему не хватало данных. Он по-прежнему считает, что можно легко придумать множество разных версий, объясняющих эволюцию языка, но трудно какую-либо из них однозначно принять{42}.
Стороннему наблюдателю нелегко понять, почему ученые типа Нюмайера и Джейкендоффа возлагают на одного Хомски вину за то, что вся мировая лингвистика игнорирует эволюционный аспект возникновения языка: казалось бы, состоявшиеся ученые могут не оглядываться на чужие мнения. Однако Хомски действительно сильно влиял на взгляды, замечает Стивен Пинкер, отчасти благодаря своему интеллектуальному авторитету, отчасти из-за агрессивного стиля полемики, разделившего всю лингвистику на два лагеря.
«Разве может мнение одного человека иметь такой вес? – спрашивает Пинкер. – Дело в том, что у Хомски было и есть невероятное влияние в среде языковедов. Есть ревностные поклонники, превозносящие каждое его слово, и заклятые враги, говорящие "черное" на каждое его "белое". В такой ситуации лингвистам, принимающим некоторые идеи Хомски (язык как сложная, комбинаторная, частично врожденная ментальная структура) и отвергающим другие (причудливые и постоянно меняющиеся детали его грамматической теории, отрицание любых попыток объяснить происхождение языка эволюционно), приходится не так-то просто»{43}.
Лингвистика, как и другие гуманитарные науки, не привыкла искать объяснений в эволюции, хотя для биологии это основополагающий принцип. Пинкер был одним из первых лингвистов, попытавшихся его применить. Ради этой «невероятно скучной», по его собственной формулировке, цели Пинкер в соавторстве с Полом Блумом написал замечательную статью. В ней авторы объясняют лингвистам, что, вопреки мнению Хомски и историка науки Стивена Джея Гоулда, «человеческий язык, как и прочие специализированные биологические системы, эволюционировал по законам естественного отбора»{44}.
Пиджины, креольские и жестовые языки
Один из темных для Хомски моментов эволюции языка – то, что он слишком сложен и не имел промежуточных форм, – заинтересовал Дерека Бикертона. Бикертон занялся этой темой, изучая такой удивительный лингвистический феномен, как превращение пиджинов в креольские языки. Пиджин – это язык с примитивным словарем и минимальной грамматикой, изобретенный для общения двух сообществ, не владеющих языками друг друга. И замечательные превращения он терпит во втором поколении носителей: у них он сам собой развивается до полноценного языка с достаточным набором грамматических правил. Такие «достроенные» пиджины называются креольскими языками.
Бикертон, изучая креольские языки Гавайев, разглядел в их эволюции общий принцип развития человеческого языка. Первые языки на земле, полагает он, были похожи на пиджины: они состояли почти целиком из лексики, а синтаксис появился позже. И некоторые предполагаемые реликты этого протоязыка можно наблюдать и сегодня. Если ребенок не обучится языку в раннем детстве, когда его универсальная грамматика наиболее восприимчива, то он не обучится ему уже никогда. Такие случаи крайне редки: потерявшиеся младенцы, которых воспитали животные, или дети, изолированные от человеческого общения нездоровыми родителями. В 1970 г. в Калифорнии 13-летняя девочка Джинни с матерью вырвались из заточения в доме, где девочку с полуторагодовалого возраста держали в запертой комнате без всякого вербального общения. Врачи и педагоги настойчиво пытались научить Джинни говорить, но она так и не смогла усвоить принципы грамматики. Ее фразы оставались на уровне «Хотеть молоко» и «Яблочный сок купить магазин»{45}