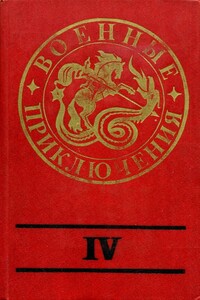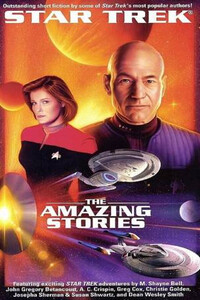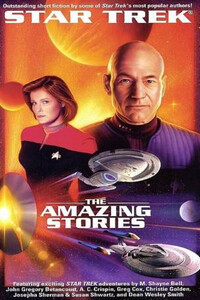Но все-таки я нашел, что искал!
Клюквенка!
Весь день и потом вечером, засыпая, думал об этом поселке. Сначала я поражался красоте слова, неожиданной среди серых, угловатых названий. Затем мне то ли приснилось, то ли примечталось: там живут необычные люди! Человек, поставивший там первый сруб и давший имя, был с душой, нежной по-есенински. Люди Клюквенки умеют слагать песни, говорить свежим, сочным языком, вобравшим лучшее, что есть в сибирской речи, умеют праздновать успехи труда, ловли, охоты, придумывать обряды, украшать избы резьбой, деревянной скульптурой… Вот бы слетать к ним, как закончим с двигателем!
Вскоре оттуда вернулась маленькая винтокрылая машина с известным обликом, который техники определяют словом «шило». Пилот рассказывал, как отыскал в тайге заблудившегося пацана. Люди стояли, смеялись шуткам веселого пилота, а я думал: «Спросить или не спросить? Какая она?» Но спрашивать было неуместно. А потом некогда было, и я был рад, что некогда. Ведь вдруг человек сказал бы то, что и следовало ожидать:
— Деревня деревней. Чудак!
Но вот я в Клюквенке.
Не стоит ее описывать. Хотя для меня и было маленьким чудом ее название, но настоящих чудес в наш век не бывает.
Я обслуживаю вертолет «МИ-4». Спереди он похож на узколобую голову зайца с лопастями-ушами. Вертолет здесь вместо автобуса: возит людей на работу, и люди даже не говорят «полетим», говорят «поедем».
— Поехали на буровую!
Голубоглазый бригадир доволен, что летит с женой-поварихой. Остальные балагурят: зря жену взял, вся ваша жизнь на виду будет, расстраиваться будешь.
— А я ее за клюквой пошлю, — отвечает он. — Она у меня ласковая.
Женщине под защитой мужа легко смеяться, одергивать — «не болтай», — а вот молоденькая практикантка-стряпуха в яркой косынке и с узенькими коленями, стянутыми сатиновыми брючками, в сапогах, та скоро начнет узнавать, какова она, жизнь, среди оравы мужиков! Будет плакать, если нелетная погода, а продукты кончились. Будет радоваться, когда пойдет газ и ударит фонтан нефти. Будет привыкать мерзнуть в выстывающем зимой вагончике. И научится грубо ругаться, если кто обидит…
Бывают у нашего вертолета и другие рейсы. Полмесяца назад отправили старуху-остячку в дом престарелых. Та старуха была то ли злая, то ли рассерженная. Предугадать это по ее нерусскому лицу было трудно, и Савва, наш словоохотливый бортмеханик, сразу попал впросак:
— Бабуся, у вас, значит, никого не осталось?
— Ты цо, власть, цо меня спрасывас? — отрезала бабуся. — Рот разинул, как медведь!
Все же Савва захотел узнать, сколько ей лет.
— Хоцес, цоб я померла?
Савва только головой покрутил и действительно подержал рот открытым.
По виду ей можно было дать шестьдесят. Старухе было восемьдесят…
Как же я удивился: на днях старуха-остячка вернулась к нам в Клюквенку. Она устроила побег из дома престарелых! И Савва помог ей в этом. На свой страх и риск он скрыл ее от рассеянного взгляда командира вертолета, приказав закутаться в платок, притвориться спящей. В Клюквенке все пассажиры высадились, командир и второй пилот отправились ужинать, а старуха вышла последней и поплелась полем аэродрома к поселку. Я тогда поглядел ей вслед. Согбенная, но без клюки. И современный рюкзачок за спиной… Помереть в родной избе решила, что ли? Или, наоборот, с того света вернулась, спохватившись, что не все дела на земле переделала?
— Ох и влетит еще тебе от командира! — сказал я Савве, глядя в его хитровато-беспечное лицо и сдержанно ожидая пояснений. — Что за контрабанда?
— Старикам везде у нас почет, — пропел Савва. — Не мог! Ну не мог отказать, черт ее подери! Как снова прилетел туда, так вдруг бабуся откуда ни возьмись с ножом к горлу: спаси ты меня, помираю в приюте. Смерти моей хочешь?
— Да чем там плохо? Тихо, чисто, кормят…
— Ты не понимаешь? Я понимаю. Правильно, там чистая кровать. Зачем ей это? Ей надо сидеть у костра, ей нужно ружье и чтоб рядом собака. Вот ее счастье! Ее счастье мужское.
— Тогда она соглашалась.
— Уговорили. Прихворнула, уговорили, а как взбодрилась, так заупрямилась.
— А не боишься, чего наделал?