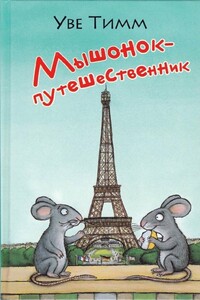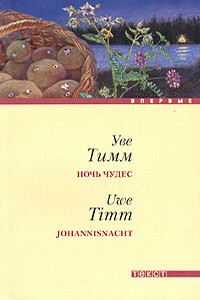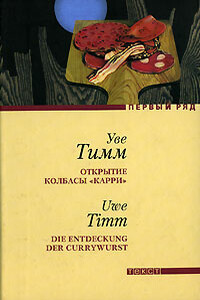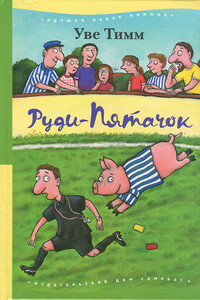Солнце. Окно. Рука. Руки. Две руки. Пальцы, веко. Звук, тяжкая работа издавать звуки. Труд сказать «завтра», непомерный труд сказать «послезавтра».
Постепенно она как-то оправилась, уже могла произносить несколько слов. Что осталось при ней, даже в такой немощности свидетельствуя о полной ясности ума и трезвой оценке окружающего, — это ее юмор. Как-то после обеда я пришел в палату и застал всех остальных пациенток, глубоко пожилых женщин, в крайнем возбуждении. Опять ночью в палату заходил мужчина, какой-то старик, который якобы давно уже по ночам в женском отделении «колобродит». Мать, очевидно, все прекрасно понимая, только покачала головой, здоровой рукой слегка постучала себя по виску, а потом сделала движение, которым всегда изображала глупую болтовню, что-то вроде открывающегося клювика большим и указательным пальцем. С превеликим трудом, с третьего раза, ибо первые два я не разобрал, до меня дошла ее реплика:
— Им бы так хотелось…
Вошла медсестра, на мой вопрос заметила только:
— Ах, это старикашка Элерс, да какой он ходок, у него если что и заходит, так только ум за разум.
Я уехал обратно в Мюнхен. Несколько дней спустя маму выписали из больницы. Сестра моя за ней ухаживала, приходила и патронажная сиделка. Я звонил сестре.
— Маме уже лучше, она начала понемногу двигать пальцами правой руки. Погоди-ка.
Я услышал в трубке шорох, а потом лепет. Всякий раз было ужасно больно — куда больнее, чем видеть ее, — слышать этот беспомощный лепет вместо ее столь близкого, столь родного мне звонкого голоса, вместо ее заливистого смеха, кончавшегося обычно счастливой присказкой «ой, не могу». Теперь она не смеялась. И я ничего не понимал. Когда я был рядом с ней, мы, несмотря на всю плачевность ее состояния, могли общаться с помощью знакомых мне жестов, мимики, всего того, что тянулось ко мне из детства воспоминанием о самой тесной, какая только мыслима, душевной близости, а еще — пожатием наших рук, нашей тайной азбукой Морзе.
Месяц спустя я навестил ее дома. Она лежала на своей кровати, той самой, на которой прежде, когда я к ней наведывался, полагалось спать мне. Сама она переселялась в гостиную и спала на раскладушке. Я с куда большим удовольствием спал бы — и куда лучше высыпался — как раз на раскладушке, благо у нее нет спинок ни в ногах, ни в изголовье. Но мама настаивала, она хотела спать только на раскладушке, а свою кровать, лакированный рыдван цвета слоновой кости, уже застеленный чистым бельем, с двумя подушками, одна в головах, вторая в ногах, чтобы я не бился ногами об спинку, уступала мне. За ночь пух в одеяле, словно в мешке, валиками сбивался к ногам, а сверху оставался один пустой пододеяльник.
Теперь на кровати лежала она, а я спал на раскладушке. Сестра выгладила мне рубашку, белую, два нагрудных кармана, роговые пуговицы, — ту самую, американскую, которую обычно, когда я приезжал, мне гладила и мама, приговаривая, что материалу этому сносу не будет, он как парусина, такой же прочный. Сестра повесила рубашку на шкаф против кровати. Мать с кровати смотрела на рубашку и что-то бормотала, а что, я разобрал, лишь несколько раз ее переспросив:
— Рубашка мне нравится.
Лишь много позже я сообразил, что она, наверно, хотела, чтобы ее в этой рубашке похоронили.
Вскоре после этого с ней случился второй удар, и ее снова положили в больницу. На следующее утро, раным-рано, позвонила медсестра из реанимации и сообщила, что матери очень плохо.
Я помчался в аэропорт, прилетел в Гамбург, сразу же взял такси. В приспущенные окна машины задувал теплый встречный ветер, неся с собой запахи сухой листвы и зацветшей воды, что застоялась в каналах.
По больничному коридору мне навстречу шла сестра, она сказала, что мама два часа назад умерла.
Она лежала в маленькой комнатке, скорее каморке, где, кроме койки, едва хватило места для стула. Она лежала передо мной и казалась — вот что было неожиданностью — совсем маленькой, почти ребенком, эта хрупкая, но такая стойкая, такая волевая женщина, которая так не хотела и не любила командовать. Укрыта белым одеяльцем, руки сложены, но не сплетены для молитвы — она ведь вышла из церкви. Вокруг по подушкам и одеяльцу сестры разложили маргаритки, что росли за окном, в палисаднике перед больницей. Совсем детские руки. Ни единого старческого пятна, а ведь ей было уже почти девяносто. Я осторожно взял правую. И оторопел — такая она оказалась холодная. Мягко приподнял один пальчик, в эту секунду мне показалось, что она ласково усмехнулась. И щеки холодные, к тому же чуть деформированы платком, которым ей подвязали подбородок. Только сзади, глубоко под затылком, я еще ощутил последние остатки тепла, которым полнилась ее жизнь.