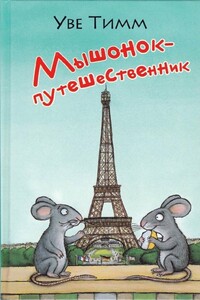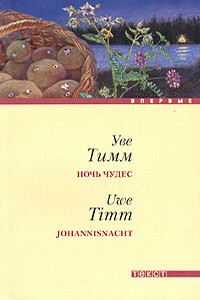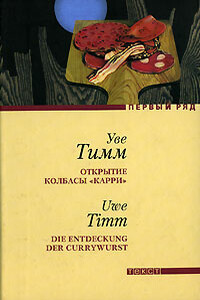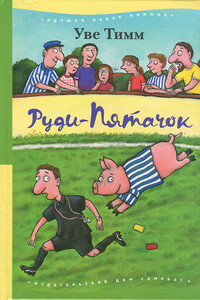— Счет?
— Оплатил.
Она все равно нервничала, рука то и дело тревожно ерзала по одеялу.
— Дома все в порядке, можешь не беспокоиться.
Но она хотела поговорить, хотела рассказывать, о себе, об отце, обо мне.
— И каким же я был? — Покуда можно получить ответ на такой вопрос, ты еще ребенок.
— Необычным.
— Что значит «необычным»?
— Да просто необычным.
— Но в чем именно?
Она подумала немного, потом сказала:
— Тебе львы в кустах мерещились. И ты палкой как давай шуровать. Все над тобой потешались. Кроме отца, он к тебе подошел и тоже стал львов искать. — Она задумалась, и было видно, что ей трудно не только говорить, но и думать, вспоминать. — Наш папа всегда такой заботливый был, — сказала она вдруг. — Он бы эту жуткую операцию не допустил.
— Но ведь она необходима.
— Он бы не допустил. Он всегда обо мне заботился, — сказала она.
Сейчас ей хотелось так думать, и я сказал:
— Да. — И добавил: — Наверно.
Карл-Хайнц, который был так привязан к отцу и вообще был настоящим мальчишкой… Этим мальчишкой он, отец, гордился. По всей вероятности, брат был таким же боязливым ребенком, как и я. И его тоже, как и меня, наверно, пробирал страх при одном воспоминании: «Ну же, прыгай!» А внизу, где-то совсем далеко, вода. И никто мне так никогда толком и не объяснил, как прыгать, чтобы головой вниз, но при этом вперед, оттолкнуться от доски, а не просто с нее рухнуть. Однажды, в дождливый день, когда в бассейне почти никого не было, я туда пошел, никому ничего не говоря, взобрался на пятиметровую вышку и спрыгнул. Десятиметровая все еще меня дожидается. Чувство, как приказ: будь мужественным! Он должен был быть мужественным, но не безрассудным. Уже в лазарете, с ампутированными ногами, в полубреду, одурманенный морфием, он уверяет отца: на рожон он не лез. То есть даже тогда, уже калекой, осознавая всю свою отныне исковерканную жизнь, свою юность, которой не было, — даже тогда он все еще хочет быть хорошим, послушным, смелым мальчиком, мальчиком, у которого достало мужества не лезть на рожон.
К письму матери брат приложил второе письмецо, для меня, тогда трехлетнего малыша.
22 июля 1943 года.
Дорогой Уве!
Как мне пишет наша золотая мамочка ты хочешь перестрелять всех русских и потом вместе со мной смыться. Малыш, так не годится, представляешь, если все так сделают? Но я надеюсь, что скоро вернусь домой и тогда поиграю с моим Уве.
Мы сейчас ждем переброски, нас направляют на другой участок восточного фронта.
Что ты там делаешь целыми днями? Небось в ежевике пасешься? Ну и правильно, кормись на здоровье!
Как, откуда в голову трехлетнему карапузу может прийти мысль «перестрелять всех русских»? Не иначе, у взрослых это было само собой разумеющееся присловье. Но возможно, таким очень уж окольным путем мать, опасаясь военной цензуры и потому вложив свой призыв в уста ребенку, пыталась подбить сына на дезертирство? Иначе вообще ни складу ни ладу: если ты перестрелял всех русских, зачем смываться?
Люнебургская пустошь. Мертвая сушь[19]. Шлезвиг-Гольштиния. Курорт Бад-Зегеберг. Воскресный день клонится к вечеру. Прогулка вокруг озера. Отец в шляпе и легком летнем пальто, в руках кожаные перчатки, мать в костюме, светлом пыльнике, нитяных перчатках, рядом ребенок в светлых штанишках, белых гетрах — так они ходили гулять. При воспоминании об этом — оторопь, трудно дышать, трудно думать, вспоминать трудно. И еще вот что: на этих воскресных прогулках речь часто шла о нем, или это часто — сильное преувеличение? То есть иногда, от случая к случаю, речь шла о нем, а мне эти разговоры впечатались в память, потому что в них, вроде бы меня не касавшихся, было что-то, ставившее под сомнение меня, мою жизнь. Впрочем, не только меня, но и родителей, и всю их жизнь. Что, если бы… Совершенно излишний вопрос, который, однако, всегда имеет в виду и самого вопрошателя: насколько ему ход вещей и событий представляется изменяемым, подвластным рациональному вмешательству. При том что мать ни разу отца ни в чем не упрекнула. Всегда считалось, что брат действительно записался добровольно, отец его не уговаривал. А и не нужно было уговаривать.