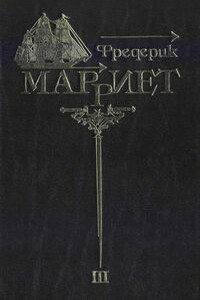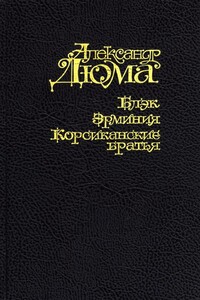Под веками снова вскипели слёзы. Нет, не мог Оллард уйти за Грань по доброй воле!
Элеонора промокнула лицо и поднялась. Что толку скорбеть! Она зажгла светильник и взяла бумаги, которые Оллард передал, прощаясь. Сверху лежала записка. Её Элеонора оставила на потом. Просмотрела выписки из трактатов, их общие мысли о власти и управлении… Это на завтра, сейчас перед глазами плыло от усталости и слёз. Задержала в руках гербовый лист с печатью — письмо о признании наследников. Его она предъявит императору, когда близнецы войдут в года. Она убрала письмо в ларец, разложила бумаги на столе и развернула записку.
Оллард писал:
«Дорогая Элеонора,
я дал вам надежду, которой не суждено было сбыться. Надеюсь, за эти месяцы вы успели узнать меня достаточно, чтобы понять — я никому и никогда не был так верен, как заветам моего рода. Моя жизнь — ничтожная плата за его чистое имя.
Я благодарен отцу за то, что не позволил соединить наши судьбы двадцать лет назад. В вас слишком много жизни, вы желаете обладать всем; я же никогда не принадлежал никому и ничему, кроме своей семьи, и не знаю иных чувств, кроме долга перед ней. Жить изгнанником с чужим именем, под угрозой разоблачения и позора, ждать прощения, в котором не нуждаюсь ни я, ни мой род? Благодарю покорно. Лучше смерть.
Верю, что вы поймёте меня, а также сдержите слово и в положенный срок представите наследников ко двору под их настоящим именем. Несомненно, вы возмущены, что я оставил их; но представьте, если бы вы не могли бы раскрыть своё материнство и принуждены были бы звать своих сыновей, свою кровь чужим именем! Кроме того, умершие предки служат лучшим примером, чем живые, благо лишены пороков и естественных слабостей. Вы воспитаете близнецов обходительными и очаровательными, не таящими угрозы, какими никогда не смог бы воспитать я. К ним отнесутся иначе, чем ко мне.
За помощью обращайтесь к Ривелену. Он слишком много поставил на Север, чтобы не отыскать вам нового наставника. И не спешите травить барона (полагаю, уже маркграфа) Тенрика. Ваш супруг по-настоящему любит свой народ, а это огромная редкость для правителя.
Верю в ваш ум и силу духа. И надеюсь, что вы не были столь наивны, чтобы всерьёз рассчитывать на меня. Быть может, вас утешит, что я и правда привязался к вам больше, чем предполагал. Но есть связи много крепче.
Пусть ваш путь будет лёгким. Я же ухожу за Грань со спокойным сердцем и чистой совестью».
Свечи погасли, а Элеонора всё вглядывалась во тьму сухими глазами. Медленно скомкала бумагу. Открыла ларец, достала письмо и тоже сжала в ладони, ломая печати. Отшвырнула, вскочила и бросилась разжигать протопленный с вечера камин.
— Так дела не делаются! — шипела она. — Бросил меня! Думал, я буду одна бороться за Север? Выращу в одиночку детей, чтобы отдать их? Держишь меня за племенную кобылу? Нет уж! Не для того я терпела муки! Они мои и только мои! Нам хватит Севера, а твоё имя сгинет, пропадёт!
Руки дрожали, огниво не высекало искры. Снова и снова Элеонора била кресалом, разжигая погребальный костёр для своих и чужих надежд. Раздувала слабые искры и яростно шептала:
— Никто не узнает! Никогда!
В покоях Ривелена мало какая поверхность не была завалена бумагами, исписанными знакомым размашистым почерком. Едва узнав о гибели маркграфа, люди канцлера обшарили его комнаты и, кажется, всю восточную башню. Такко ночевал в чужих комнатах и оттого чувствовал себя ещё более потерянным и ненужным.
— Маркграф оставил завещание, — говорил Ривелен, держа в руках гербовый лист. — Тебе полагаются некоторые средства при условии, что уедешь в столицу и будешь учиться. Завещание пока не утверждено Его Величеством, но этот пункт я одобрю сам, невелика сумма.
Такко безучастно кивнул. Делать на Севере было больше нечего. Возвращаться домой — тоже незачем.
— По законам своей страны ты совершеннолетний, но по имперским — нет. Тебе придётся написать отцу и сообщить, где находишься. Средствами пока буду распоряжаться я, потом найдём тебе опекуна.
Отец с ума сойдёт от радости, что сын цел и получит место при дворе. Он столько мечтал, что Такко должен устроиться в Империи, но о столице даже не заикался. Сердце сжалось — а жив ли вообще отец?