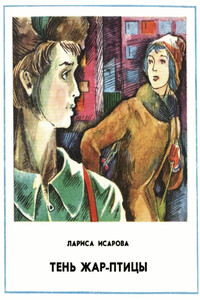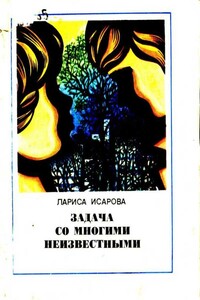— Мы ведь и себя не знаем, нам ли судить других… К сожалению, жизнь не имеет черновиков, дублей, как в кино, все набело, навсегда, не вычеркнуть, не стереть… Пока ее не потерял, не представлял, что она для меня, думал — игрушка, одна из многих…
Лужина вернулась умытая, причесанная, в ярком платье для беременных, обшитом кружевами.
— Пишите… — Тон Лужиной был жесткий, она злилась на себя за свое бескорыстие. — Пятидесятая больница, мужская хирургия, пятая палата… Сабуров…
— Он в сознании?
Она скривила губы.
— Как для кого. Вот год назад пришел со мной в Останкино, показать хотел одну картину. Подошли к двери, я его вперед пропускаю, как старика, а он передо мной дверь распахнул:
— Нет, нет, вы дама, прошу, и потом я тут в некотором роде из хозяев…
Мы помолчали, Лужина прицельно следила за моей реакцией, о Виталии Павловиче она забыла и даже вздрогнула, когда он заговорил:
— Во всем я виноват, развратил ее, втянул в эту среду, мне и отвечать… Понимаешь, не верю, что она — пустышка, никто еще не достучался до ее сердца, а оно ведь есть, и такое ласковое…
Он улыбнулся ей.
— Ты проходишь по делу Лисицына как свидетельница?
— Нет, пытаются ее объявить соучастницей. Но у меня есть такие адвокаты, — его голос звучал не очень уверенно, — и разве не должны они учитывать, что женщина на последних месяцах беременности…
Лужина растерянно улыбалась, ее явно терзал страх, кажется, только сейчас она начинала понимать, как запутала и осложнила свою жизнь.
И вот я в больнице. Палата на четверых. Салатные стены, белые окна, двери, потолки. Койка в углу, возле окна, где светлее. На тумбочке — тетрадь, графин с клюквенным морсом, мензурка с одной гвоздикой. Роскошной, сиреневато-розовой, а зубчики белые, точно кружевная оборка. Лицом ко мне лежал старый человек, костлявый, почти высохший, с густыми желто-белыми волосами. Губы запали, длинный острый нос, красноватые веки. Подбородок разделен ямочкой, похожей на шрам. Он не спал и смотрел на меня в упор тяжелым остановившимся взглядом, в котором ничего не было — ни интереса, ни внимания, ни раздражения.
Я подсела, сослалась на Лужину. Глаза его потеплели, осветились, стали ярко-серыми, водянистость исчезла.
— А, Викочка, золотая девочка…
Иронизировал? Нет, не похоже.
— Знали бы вы, сколько она со мной нянчилась! И врачей приводила, и сюда устроила на операцию. Такая бессребреница, за все сама платила…
Я растерялась. Помрачение сознания? Или есть другая Вика? Я не знала, как заговорить о вышивке.
— И так ей, бедной, не повезло, — все шелестел старик, облизывая сухие губы, — запутали, вот и мается…
Я решила перебить его:
— У Маруси Серегиной оказалась ваша вышивка…
— Серегина — парвеню, все хватала, копила, цапала, аморальная дама…
— А Лужина иная?
Он шевельнулся, попробовал привстать.
— Вы ее не трогайте, она вам всем не чета. Она добрая, только и сама об этом не знает. Понимаете, она выросла в семье, где никто никогда ничего даром не делал. Никому. А когда я ей подарил несколько гравюр, просто так, потому что понравились, — расплакалась.
Он вздохнул.
— Она впервые в жизни поняла, как важно что-то делать для другого, для себя важно. Так радовалась, когда могла проявить широту души… Кажется, ее никогда в жизни не любили просто так, бескорыстно…
Неужели он такой видит Лужину? Чудо человеческого заблуждения?
— А вот ваша Серегина ко мне привозила и спекулянтов, и нуворишей, даже иностранцев, когда я бывал не в себе, в минуту похмелья или запоя. Это благородно, достойно, по-людски?! И все что-то у меня тащили, скупали, хапали за бесценок… И воздалось ей по справедливости.
Я почувствовала, что он из тех людей, кто дарил доверие медленно, по капле, но то, что подарил, до гроба уже не отнимет…
— Я подписал завещание, оно у главврача хранится… Лужина — моя наследница… Свою вещь, наследственную, я имел право подарить кому хотел.
— Она об этом знает?
— Детям знать не положено. Когда найдут вышивку… ей вернут, хоть одна душа поминать будет…
Он закашлялся, на губах выступила розоватая пена, я позвала сестру, но он крикнул, чтоб я не уходила. Когда его успокоили, сделали укол, я снова подошла. Сейчас он выглядел лучше, чем раньше, кожа разгладилась, я поняла, что ему лет семьдесят.