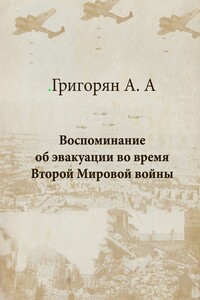Приехала смена — и опять я поживу четыре дня в базе, вымоюсь, приведу себя в порядок. Но только подумать страшно, — всего 64 версты ехать не менее целых суток. Вот тут видно, до чего мы дошли. Эшелоны темные, неосвещенные, пройдут одну-две станции, остановятся на неопределенное время и опять каким-то толчком продвинутся верст на десять. Так в умирающем организме сердце, лениво и вяло, проталкивает кровь, сделает один-два удара, остановится, раздумает и опять протолкнет, чтобы остановиться снова. Страна умирает. Но не умирает вера, что она оживет вновь.
27 января. Кушевка. База. Я хотел скоре уехать на позицию и уже получил разрешение от командира орудия, поручика Юрия Л., но капитан 3. вызвал меня и заявил, что я ему очень нужен для составления доклада в высшие сферы и дня два-три он меня задержит.
Доклад, по мысли капитана 3., должен, во-первых, изложить картину нашей жизни во время боев и, во-вторых, картину тех возмутительных беспорядков, которыми полна деятельность интендантства и железнодорожной администрации. Благодаря их произволу и бездушному, бумажному отношению мы сидели холодные и голодные на передовых позициях, отстаивая от неприятеля переправы через Дон. На время этой работы я освобождался от всех нарядов.
Конечно, доклад — это более мне свойственно, чем что-либо другое, только я никак не пойму, какой должен быть его тон. Капитан 3., видимо, хочет яркого описания боев и лишений нашей жизни; но такой полуфельетонный тон никак нельзя совместить с докладом генералу; доклад должен быть выдержан в сухом, деловом тоне. Вечером я читал проект капитану 3., который им явно не удовлетворен. Он находит его бледным и хотел бы более красочных и сильных выражений. Но тогда никак нельзя совместить этот тон с полуофициальным обращением.
Я дал тетрадь с моими записками капитану Д. Через некоторое время он принес мне ее в теплушку и передал мне четыре странички исписанной почтовой бумаги в качестве ответа. Я при нем прочитал про себя его письмо. “У Вас за спиной крылья, — пишет он, — на сердце — радость; в душе энтузиазм и горение. А я настолько моложе и меньше Вас. Я завидую Вам, как нищий богачу, Вашим переживаниям, в которых Вы больше всего юноша с таким живительным огнем… Моя душа прошла как раз обратный путь.
Я впервые почувствовал, что начинаю зябнуть, когда мы отражали конницу Буденного… Мои казаки и кадеты, как дети, испытующе смотрели мне в глаза и искали, как прежде, в них спокойствия и огня, а я почувствовал внутри себя ледок, что не могу им дать той гипнотической силы, которая увлекает других и может бросить без рассуждения на смерть. Я, кажется, Вам говорил, что только как грубый воин, грубым словом я поднял в них энергию и силу. Вы, как аристократ духа, осудили меня за это; а я понял, что это первые аккорды финала моей пьесы”.
В этот момент, когда вся душа моя рвалась к нему, я не мог перекинуться с ним хотя бы парой слов. В нашей теплушке был народ; у него в купе — тоже (он живет не один).
— Мы сейчас пойдем с Вами гулять, — сказал я ему.
И мы пошли вдвоем в станицу.
Был резкий ветер. Вечерело. В станционном садике, где вчера висели на страх всему миру два повешенных солдата за дезертирство, обледенелые ветви деревьев стучали, как какие-то кастаньеты. Мы вышли в поле, а потом в унылую, нудную станицу, какую-то безлюдную и почти злобную. А мне хотелось теплой комнаты, где мы вдвоем могли бы нащупывать дружескую душу, где был бы рояль, который запел бы под ударами нервной руки; где можно было бы идти не только с ним рядом, как двум случайным спутникам, но взять его нежно за руку, погладить его голову, поцеловать его, как целуют ребенка…
Вечером, после того, как я читал капитану 3. проект доклада, я был неожиданно приглашен в офицерское собрание. Это, собственно, довольно необычное приглашение, ибо до сих пор, кажется, ни один солдат не был приглашаем в офицерскую столовую. Капитан 3. встретил меня и предложил место за одним из маленьких столиков — на четыре прибора, кроме меня, за столиком сидели поручики Я. и Р. После ужина мы остались вчетвером, обсуждали вновь проект доклада, а затем капитан 3. попросил меня прочесть мои записки.