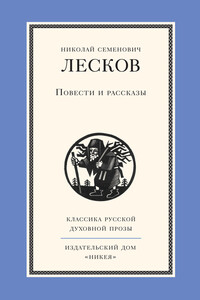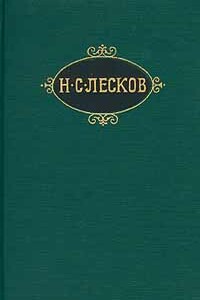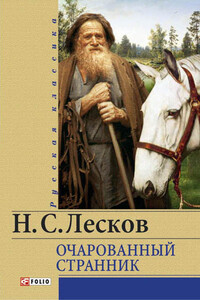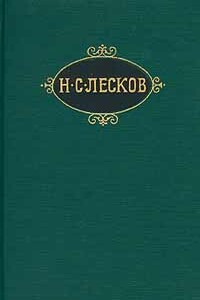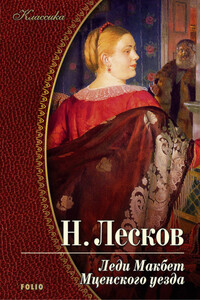На краю света - страница 25
И вот, пока я его рассматривал, он, этот удивительный дух, все ближе, ближе, и – вот, наконец, совсем близко, и еще момент, и он, обрызгав всего меня снежной пылью, воткнул передо мною свой волшебный жезл и воскликнул:
– Здравствуй, бачка!
Я не верил ни своим глазам, ни своему слуху: удивительный дух этот был, конечно, он – мой дикарь! Теперь в этом нельзя было более ошибаться: вот под ногами его те же самые лыжи, на которых он убежал, за плечами другие; передо мною воткнут в снег его орстель, а на руках у него целая медвежья ляжка, совсем и с шерстью и со всей когтистой лапой. Но во что он убран, во что он преобразился?
Не дожидая с моей стороны никакого ответа на свое приветствие, он сунул мне к лицу эту медвежатину и, промычав:
– Лопай, бачка! – сам сел на сани и начал снимать с своих ног лыжи.
Глава одиннадцатая
Я припал к окороку, и грыз и сосал сырое мясо, стараясь утолить терзавший меня голод, и в то же время смотрел на моего избавителя.
Что это такое было у него на голове, которая оставалась все в том же дивном, блестящем, высоком уборе, – никак я этого не мог разобрать, и говорю:
– Послушай, что это у тебя на голове?
– А это, – отвечает, – то, что ты мне денег не дал.
Признаюсь, я не совсем понял, что он мне этим хотел сказать, но всматриваюсь в него внимательнее – и открываю, что этот его высокий бриллиантовый головной убор есть не что иное, как его же собственные длинные волосы: все их пропушило насквозь снежною пылью, и как они у него на бегу развевались, так их снопом и заморозило.
– А где же твой треух?
– Кинул.
– Для чего?
– А что ты мне денег не дал.
– Ну, – говорю, – я тебе, точно, забыл денег дать, – это я дурно сделал, но какой же жестокий человек этот хозяин, который тебе не поверил и в такую стыдь с тебя шапку снял.
– С меня шапки никто не снимал.
– А как же это было?
– Я ее сам кинул.
И рассказал мне, что он по приметке весь день бежал, юрту нашел – в юрте медведь лежит, а хозяев дома нет.
– Ну?
– Думал, тебе долго ждать, бачка, – ты издохнешь.
– Ну?
– Я медведь рубил, и лапу взял, и назад бежал, а ему шапку клал.
– Зачем?
– Чтобы он дурно, бачка, не думал.
– Да ведь тебя этот хозяин не знает.
– Этот, бачка, не знает, а другой знает.
– Который другой?
– А тот хозяин, который сверху смотрит.
– Гм! Который сверху смотрит?…
– Да, бачка, как же: ведь он, бачка, все видит.
– Видит, братец, видит.
– Как же, бачка? Он, бачка, не любит, кто худо сделал.
Рассуждение весьма близкое к тому, какое высказал св. Сирин соблазнявшей его прелестнице, которая манила его к себе в дом, а он приглашал ее согрешить всенародно на площади; та говорит: «Там нельзя; там люди увидят», а он говорит: «Я на людей-то не очень бы посмотрел, а вот как бы нас бог не увидал? Давай-ка лучше разойдемся».
«Ну, брат, – подумал я, – однако и ты от царства небесного недалеко ходишь»; а он во время сей краткой моей думы кувыркнулся в снег.
– Прощай, – говорит, – бачка, ты лопай, а я спать хочу.
И засопел своим могучим обычаем.
Это уже было темно; над нами опять разостлалось черное небо, и по нем, как искры по смоле, засверкали безлучные звезды.
Я тогда уже немножко препитался, то есть проглотил несколько кусочков сырого мяса, и стоял с медвежьим окороком на руках над спящим дикарем и вопрошал себя:
«Что за загадочное странствие совершает этот чистый, высокий дух в этом неуклюжем теле и в этой ужасной пустыне? Зачем он воплощен здесь, а не в странах, благословенных природою? Для чего ум его так скуден, что не может открыть ему творца в более пространном и ясном понятии? Для чего, о боже, лишен он возможности благодарить тебя за просвещение его светом твоего Евангелия? Для чего в руке моей нет средств, чтобы возродить его новым торжественным рождением с усыновлением тебе Христом твоим? Должна же быть на все это воля твоя; если ты, в сем печальном его состоянии, вразумляешь его каким-то дивным светом свыше, то я верю, что сей свет ума его есть дар твой! Владыко мой, како уразумею: что сотворю, да не прогневлю тебя и не оскорблю сего моего искреннего?»
И в этом раздумье не заметил я, как небо вдруг вспыхнуло, загорелось и облило нас волшебным светом: все приняло опять огромные, фантастические размеры, и мой спящий избавитель представлялся мне очарованным могучим сказочным богатырем. Я пригнулся к нему и стал его рассматривать, словно никогда его до сей поры не видел, и что я скажу вам? – он мне показался прекрасен. Мнилось мне, что это был тот, на чьей шее обитает сила; тот, чья смертная нога идет в путь, которого не знают хищные птицы; тот, перед кем бежит ужас, сокративший меня до бессилия и уловивший меня, как в петлю, в мой собственный замысл. Скудно слово его, но зато он не может утешать скорбное сердце движением губ, а слово его – это искра в движении его сердца. Как красноречива его добродетель, и кто решится огорчить его?… Во всяком разе не я. Нет, жив Господь, огорчивший ради его душу мою, это буду не я. Пусть плечо мое отпадет от спины моей и рука моя отломится от моего локтя, если я подниму ее на сего бедняка и на бедный род его! Прости меня, блаженный Августин, а я и тогда разномыслил с тобою и сейчас с тобою не согласен, что будто «самые добродетели языческие суть только скрытые пороки». Нет; сей, спасший жизнь мою, сделал это не по чему иному, как по добродетели, самоотверженному состраданию и благородству; он, не зная апостольского завета Петра, «мужался ради меня (своего недруга) и предавал душу свою в благотворение». Он покинул свой треух и бежал сутки в ледяной шапке, конечно, движимый не одним естественным чувством сострадания ко мне, а имея также religio, – дорожа