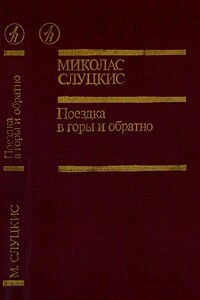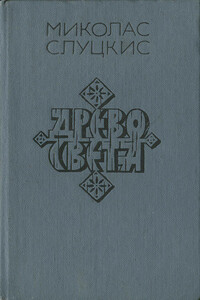— А ты?
— Я? — Он наклонился к сыну — Я?
— Еще не пришел в себя? Что собираешься делать, спрашиваю?
— А тебе не все равно? На пенсию мне еще рановато…
— Значит, будешь вкалывать, как и раньше, в этой своей мясной лавке? Хотя женушка из дому убежала?
Обиделся за мать… Наверное, связывает их не только обоюдное потворство слабостям друг друга, направленное прежде всего против главы семьи Как мало я знаю о нем. Эта, уже второй раз пришедшая мысль испугала Наримантаса.
Не понимаю, что должно измениться? Может, у людей аппендиксы перестанут воспаляться или язвы кровоточить?
— Значит, продолжаем спасать человечество? Ну что же, извини, отец. Извини!
Ригас повернулся, солнце залило спину, широкую в плечах, узкую в талии. Под левой лопаткой родинка величиной с копейку. Таким Наримантас всегда будет помнить сына. Стройного, обнаженного, с родинкой на спине, ярко освещенного солнцем, потягивающегося на фоне почти темного коридора. Не раз еще доведется им сталкиваться, ловить мысли друг друга, сжиматься внутренне в ожидании осуществления того, что не стало еще явью, но вспоминать его Наримантас будет именно таким.
Касте Нямуните и виду не подала, что удивлена поздним появлением доктора; доброе утро, сестра, доброе утро, доктор, хороший денек, сестра, да, доктор. Отвела голубовато-серые глаза, глянула в окно. Высоко в небе махала крыльями ворона, над ней белый, веющий заоблачными далями след самолета. Официально-холодный взгляд Нямуните неприятно царапнул, хотя даже такой ее суровый вид отмежевывал от забот, не связанных с больничными делами, как стерильность операционной отгораживает хирурга от носителей инфекции. Он даже уважал ее за сдержанность, высоко ценил, а может, скрывалось за этим и более сильное чувство, но они, словно договорившись, не касались его, предоставив ему право незримо вплетаться в их сложные отношения. И все же в отстраненности, спокойствии Нямуните, в какой-то ее показной вялости почудился ему упрек, как позавчера, когда топтался на этом месте Ригас. Не выслушав как следует сына, он принялся было ворчать на него, а ее глаза стыли белесыми камешками, отражая свет и ничего не выражая. Интересно, каким ей виделся Ригас? Поторопился прогнать мысль, шепнувшую, что рядом с именем Касте не мило ему никакое другое. Могла бы все-таки спросить, почему задержался. Ведь не бросил же работу, и нагрузка не уменьшается, растет! Присмотрелся внимательнее, прошлась черным карандашиком по широким негустым бровям, не ее цвет, точно грубое прикосновение чего-то чуждого. Неужели в его тревоги относительно будущего, которые уже не только начались, но и неудержимо наваливаются на него, замешана и она? Надеюсь на ее помощь не только как на помощь опытной хирургической сестры, она смекнула это и заранее пытается дать мне понять, чтобы не рассчитывал, что никаких обязательств на себя не берет?
— Мне надо кое-что сообщить вам, доктор. — Склонилась над столом, крупные сильные руки продолжали перебирать кучку таблеток и порошков, полные губы шевелились, читая названия лекарств.
— Пожалуйста, без предисловий.
Взглянула снизу вверх, не переставая шевелить губами, в ее пальцах шуршали аккуратные пакетики, по которым она раскладывала назначенные врачом лекарства, — интересы больных прежде всего, не так ли? В клинике смеются над этой привычкой Нямуните, но Наримантасу непроизвольное движение ее губ напоминает школьницу-переростка, уже не умещающуюся в форменном платьице. Чем-то девчоночьим веяло от сестры, хотя Наримантас знал, что она уже была замужем.
— Звонили тут вам, голос такой представительный, — деловито сообщила она. — Сказала, на консультацию вас вызвали.
— Мне не нужны адвокаты, сестра.
Она снисходительно улыбнулась, словно надоедливому больному, с которым лучше не спорить, улыбка задела его, и он повысил голос:
— Какая еще консультация? Не порите чушь!
— Простите, доктор. Понимаю. Мне следовало сообщить незнакомому человеку, что доктор Наримантас загулял на дежурстве и проспал. В другой раз буду знать. — Она заговорила резковатым, четким и потому несколько неприятным, без выражения голосом и как будто не о нем, а о ком-то другом.