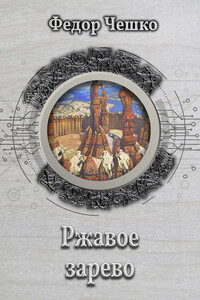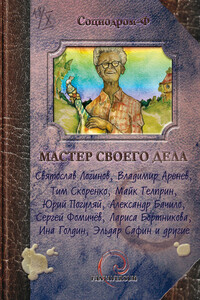Через высокое стрельчатое окно в келью вливалась промозглая темень, и неугасимый огонек под символом всемогущих был слишком слаб, чтобы сражаться с ней. Уж третий раз обходил крепостные стены ночной дозор, и Крело Задумчивый Краб давно угомонился, умолк, задышал глубоко и ровно, а вот к Нору сон не спешил. До сна ли после того, что так неожиданно сбылось в определенные для скучных раздумий часы? Какой уж тут сон...
Нор метался на шатких трухлявых нарах, кусал губы, до муторной боли в суставах сжимал кулаки. Рюни... То, на что отважилась она под тяжеловесной аркой, прогрызенной потоком в скале, сказало яснее, чем даже самые многословные объяснения: она любит. Но она устала, устала, устала ждать, ей тоскливо и жутко считать, сколько еще не быть им вместе. А Рюни — это Рюни, и при одной только мысли о том, до чего может довести ее эта тоска, в горле Нора будто горячий комок вспухает.
Хватит. После того, что случилось, медлить невыносимо и глупо. Да и чем он рискует, даже если случится худшее? Отлучением от Школы? Пусть. Ему надоело тут. Да, конечно, он не забыл того, что привело его за эти надменные стены. Нор хотел стать крепкой защитой для тех, кто ему дорог, но он ошибся: вот уже больше года его учат тому, чему он давно научился сам, заставляют гнать из себя все, чем привык гордиться. Он думал, что Школа — это возможность заполучить боевую сталь. И в этом также ошибся Нор: почти два года ждать ему, четырнадцатилетнему, позволения прикоснуться к оружию зрелых (оказывается, здесь такое решается не наличием поручителей и даже не умением — только возрастом). Разлучили с Рюни, а что же взамен?
Отсутствие неприятностей, которых, возможно, не было бы и вне Школы?
Хватит. Он не тряпичная кукла, послушная пальцам базарного балаганщика, он сам способен вершить свою жизнь. Довольно ждать, эта ночь не хуже тех, что будут потом.
— Эх, почтеннейший, и рад бы я спорить с вами, да не могу. Слова ваши горьки, как прошлогодняя брага, но они справедливы... — Лим Сатимэ махнул полотенцем по щербатому столику, со стуком поставил кружку, глянул на засидевшегося гостя с некоторым сомнением. — Пятая уже, и хоть бы раз спросили разбавленного или пива... Простите мою смелость, почтеннейший, но не чересчур ли?
Гость медленно замотал головой:
— Нет. Не че-рес-чур. Но я могу выпить и че-рес-чур, и никто меня за это не упрекнет. Вот был бы я архонтом, ну тогда уж меня бы упрек-ик-нули. Но разве же я архонт? Нет. Я — так... — Он сплюнул под стол, обеими руками придвинул кружку к себе. — Бросьте, Сатимэ. Вот вам монета, налейте себе стаканчик и посидите со мной. По дневному малолюдью дочка сама управится, она у вас шустренькая удалась. Эх, и дурни же нынешние сопляки! Мне бы вот годов этак тридцать скинуть, так уж я бы сюда стал ходить не одной только выпивки ради...
Сатимэ поскреб переносицу. И вправду, посидеть, что ли, за приятной беседой? В заведении почти никого, а те, кто есть, уже заплатили и вряд ли потребуют подливать... А, ладно! Изредка можно себе и такое позволить. Он крикнул Рюни, чтобы принесла пива, и деликатно присел на краешек скрипучей расхлябанной лавки.
Тем временем гость одним долгим глотком выхлебнул едва ли не половину немаленькой порции, отдышался, утер заслезившиеся глаза и заговорил снова:
— Вы вот давеча сетовали, что слова мои горше самого дрянного пойла, когда-либо осквернявшего глотку честного человека. Да как же не быть им такими, если вся жизнь наша — только горечь, горечь, горечь... Горечь и мерзость. И чем дальше, заметьте, тем мер... э-э... мер-зост-не-е. Ничто уже не радует, все гниет. Все. Вера, устои, долг... Сгнило, все сгнило, юное поколение и уразуметь-то уже не может, что оно за слово такое — долг, какой-такой смысл оно собой обозначало. Не-ет, верно я вам говорю: все протухло насквозь. Вот разве что кроме вашего рома...
Сатимэ пригорюнился, закивал торопливо:
— Ох, вы даже и не говорите мне про наше юношество. Вот хоть бы и дочка моя — ведь это, поверьте, хуже разорения. Да, кстати... Рюни! Ну что же ты? Я ведь, кажется, просил принести мне пива!.. Как она мать свою огорчила, как огорчила! Ну, вы, почтеннейший, слыхали уже, наверное, какой скандал у нас приключился с капитанским сватовством. Ей бы после такого до смерти стыдом маяться, да где там, другое у нее на уме. Давеча спрашивает: «Батюшка, — это меня, значит, она спрашивает. — Батюшка, а может ли по нынешнему закону школяр четырнадцати лет от роду жену себе взять?» Ну какова?